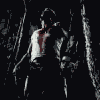Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму. После регистрации Вам будет разрешено создавать топики, писать сообщения, загружать и просматривать фотографии, оценивать посты других форумчан, управлять собственным профилем на форуме и многое другое. Личные сообщения доступны после 50 оставленных на форуме сообщений . Полный доступ к разделу "Химия" так же доступен после 50 сообщений. Если у Вас уже есть аккаунт, войдите здесь, либо зарегистрируйтесь!

Подборка коротких сочинений в прозе
#61

 Отправлено 12 октября 2010 - 11:06
Отправлено 12 октября 2010 - 11:06

Михаил Веллер А вот те шиш
* * *
Осенняя набережная курортного города.
– Приветствую!
– Виноват?..
– Багулин? Я не ошибся.
– Решительно не могу припомнить…
– Вы изменились меньше, чем я. Тридцать шестой, Москва, а?
– А-а?.. да-да… но все же?..
– А избушка под Тулой, зима?
– Так-так-так-так… ну же!
Багулин – около 70 лет, хорошо сохранившийся, рослый, седина малозаметна в густых русых волосах. Одет тщательно, с учетом моды; манера держаться добродушно-покровительственная. Чувствуется, что человек этот себя уважает и собой доволен, имея к тому основания.
Арсений – того же возраста, но выглядит старше. Худощавый, нервный; некоторую неуверенность в себе прикрывает иронией и порывистой решительностью. Новая одежда топорщится на нем, вызывая сходство с манекеном в провинциальном универмаге. Впечатление производит неопределенное: не знаешь, чего ждать от такого человека.
Обозначим их для краткости просто Б. и А.
Чуть отодвинувшись, они оценивают друг друга.
А. Вот – встреча…
Б. Вот встреча! Через века, а!
А. Какими судьбами здесь?
Б. (хозяйски поведя рукой). Живу.
А. Здесь? Давно?
Б. Четвертый год. Вышел на отдых – и осел на берегу теплого моря.
А. (завистливо вздыхает). Королевский вариант. Хорошо обосновался? Как квартира?..
Б. (с естественностью). Купил дом. Сад. Аркадия, понимаешь, и идиллия!
А. Мечта. Мм. Мечта. Большой?
Б. (скромная улыбка). Не слишком. Шестьдесят пять метров. Четыре комнаты, кухня, веранда. Но уютно, знаешь. Жизнь мечтал пожить в своем доме. Купил кресло-качалку! Вечером сядешь в нем на веранде, пледом накроешься, книжку возьмешь, цикады стрекочут, море шумит… Винцо домашнее свое – чистый виноград…
Слушай! Едем ко мне! Мигом. Я на машине. Посидим… Ты-то как?
А. У тебя машина?
Б. Да вот же – синие «Жигули». Ну, едем. Приглашаю. Мы с женой вдвоем, дочка в Киеве, сын в Ленинграде, попробуешь вино…
А. (сглатывает, покачивает головой, смотрит на часы). У меня самолет через три часа.
Б. Куда?
А. В Москву.
Б. Ты там?
А. Да…
Б. Так и прожил?
А. Да…
Б. И откуда сейчас?
А. Из Ставрополя. Впереди гроза, вот посадили, торчим здесь.
Б. Э, так еще сто раз вылет отложат. Едем! От меня позвоним в аэропорт, справимся, – телефон я себе поставил, я тут у них как-никак депутат горсовета.
А. (мнется) Не могу… У меня там встреча назначена…
Б. (шутливо грозит). Небось какая-нибудь дама?.. Ох ты старый жук!..
А. (смущенно). Что ты, ну… Может, если хочешь, так посидим в ресторане, а?
Б. Зря. Точно не можешь?
А. (вздыхает). Точно.
Б. (напористо). Ну!
А. Нет… надо в аэропорт.
Машину Багулин ведет элегантно и со вкусом – он все делает элегантно и со вкусом. На лице Арсентия удовольствие от комфорта, в позе некоторая напряженность.
Б. Работаешь еще?
А. На пенсии…
Б. Какая?
А. Девяносто четыре.
Б. Что ж… Кем ушел?
А. Инженером.
Б. Старшим?
А. Просто инженером.
Б. (сочувствует со своего высока, уяснив социальный статус старого знакомого). Эх, Сенька!.. Как был ты добрым с юных лет – так небось и ехали всю жизнь на твоем горбу, кому не лень. Да… Семья есть?
А. Нет, знаешь.
Б. Женат хоть был?
А. Да как-то все так…
Б. Да. Ясно… Сейчас-то – что делал в Ставрополе?
А. С похорон…
Б. Вот как… Кто?..
А. Сестра.
Б. (соболезнуя барственным лицом). Годы наши… Крепись, старина. Мы мужчины, дело такое…
А. (спокоен). Да. Конечно.
Полупустой по дневному времени ресторан, жизнь аэропорта за стеклянной стеной. Столик в углу; распоряжается за ним, безусловно, Багулин.
Б. Не «Рене Мартен», но коньячок сносный.
А. (причмокивает). Напиток!.. Дорог, слушай, дьявол.
Б. (полагая, что уловил смысл). Ты – мой гость сегодня. Да, да, дискуссия закрыта.
А. (кротко подчиняясь). Завидую людям, умеющим жить. Всегда завидовал.
Б. (принимая на свой счет как должное; с самодовольством, ставшим нормой поведения). Умение зависит от тебя самого. Вот ты так и остался в Москве. Зачем? Чего всю жизнь цеплялся? Вот – я подался на восток. Надо было решиться? – надо. Непросто? – ничего страшного. Результат? – налицо. Кандидатская? – пожалуйста. Докторская? – просим. Директор института? будьте любезны. Трудом? – трудом. Но без этого дикого столичного суетливого напряжения и дворцовой грызни.
А. Я всегда знал, что ты развернешься в жизни. Не сомневался… Ты всегда умел поступать по-крупному. Не боялся резко класть руля… Не всем это дано. Я рад, что ты добился многого. Состоялся. Ты и должен был.
Б. (учит). А чего, чего бояться? Осмотрелся, оценил – и давай!
А. (прислушиваясь к трансляции объявления рейса на Гамбург). За границей, вероятно, бывать приходилось…
Б. (небрежно). Случалось. Англия, Индия, Алжир. Работа, конечно, график жесткий, но присутствовали, прямо скажем, возможности и для удовлетворения любопытства. Такова логика: не боишься медвежьих углов так видишь мир.
А. (уже под хмельком). Помню давние разговоры. Помнишь?.. Да! Брать судьбу за глотку. Старость… гм… вторая молодость… Молодец. Завидую. Прожил.
Б. (великодушно). Ну, и у меня не совсем все по планам выходило. Жизнь, как известно, вносит коррективы.
А. (с мгновенным проблеском глаз). Это точно. Вносит.
Б. Но ты на жизнь не вали! Ты голова был, спокойный, дотошный, что я, не помню! Тогда еще говорил: не будь лежачим камнем, умей добиваться!.. Эх, журавеле… журавлев в небе.
Беседа приобретает некоторую бессвязность, которую можно отнести на счет алкоголя. Каждый следует скорее мыслям собственным, чем отвечая собственнику. Впрочем, такой стиль позволяет яснее понять их настроения.
А. Пиджак у тебя шикарный.
Б. Лайка. У нас – четыреста рублей. Дочь из ГДР привезла.
А. Это… она в Киеве?
Б. Преподает в университете.
А. А внуки есть?..
Б. Двое.
А. У нее дружная семья, да?
Б. (крохотная пауза). Хорошая семья.
А. Это замечательно.
Б. А у тебя?
А. А у меня? Да. А у меня – я. Холостяк. Я говорил, да?
Б. Ах-х, гуляка!
А. (горестно). Я не гуляка. Я – так… я – чижик… Вот у тебя было… и семья… а я старый неудачник!..
Б. Думать надо! Бороться надо! (Неискренне обнадеживает). Может, еще женишься?
А. У тебя и сын в Ленинграде…
Б. (с теплотой). Год назад Горный институт кончил. Сейчас в «Метрострое», к Новому году вот премию получил. Собирается в будущем году в аспирантуру.
А. Ты – победитель, да?
Б. Гм. Бр. А что ж.
А. Да! Вот… Слушай, а зачем ты здесь?..
Б. (похлопывает его по плечу). На второй круг пошли. Рассказывал же. Пошли трения в институте, мне надоело… горите вы все, думаю. Жалость и презрение: старички, сосущие проценты с прошлого. Хромает такой задохлик по институту, восемь месяцев из двенадцати помирает и оклемывается, что и знал – перезабыл… грех один… Нет! – красиво и вовремя. Людям не мешать и самому в удовольствие пожить. Доктор я? – доктор. Директор? – директор. Награды имею? – имею. Право на отдых заслужил? – горбом заработал. Живу хорошо? – как бог в отставке. Пенсии двести, и сбережений – на мой век хватит, дом в саду и машина в гараже.
А. И качалка на веранде.
Б. Да.
А. И цикады стрекочут.
Б. Стрекочут, стервы.
А. И запах магнолий. И море шумит.
Б. (возможно, подозревая иронию, но не желая допускать подобной мысли). Ах, старина… Вот сидим мы с тобой сейчас… Неважно это все… Время все уравняет… Как подумаешь иногда – а зачем оно все было… зачем ломался, уродовался… Может, ты-то правильней жил… Спокойно…
А. Что было – всегда с тобой. Есть такая гипотеза – живешь всегда во всех своих временах.
Б. (абсолютно согласный). Полагаешь?
А. Ты жизнью прожитой доволен?
Б. Да.
А. Вот.
Б. (утешает). Не надо ни о чем жалеть!..
А. Сейчас посмотрим.
Б. Что?
А. (бледнеет. Смотрит ему в глаза долгим трезвым взглядом. Тишина буквально материализуется до синевы и звона. Странное жутковатое ощущение возникает. Словно безумием пахнуло). Ты – помнишь – двенадцатое – января тридцать – шестого – года?
Б. (слегка завороженно). Нет…
А. (голосом гипнотизера). Угол Мира и Демушкина. Пятый этаж. Комната.
Б. Ф-фу, господи! Ну конечно! Как ее звали-то… Да Зинка! Акопян, Чурин!..
А. А вечер двенадцатого января? Зима, снег, патефон, Лещенко.
Б. А что тогда такое было-то?
А. Ты – в сером костюме. Акопян принес коньяк. Елка. Танцевали и уронили елку. Она стояла в ведре с водой, ведро опрокинулось, воду подтирали.
Б. Смутно… Черт его знает… Нет, наверное… Допустим. А что?
А. Ты не помнишь, что было тогда?
Б. (в недоумении от его тона). Да нет же… А что?
А. Совсем-совсем не помнишь?
Б. (чистосердечно). Клянусь – нет.
А. Размолвочка вышла…
Б. (со смехом). Какая даль, боже мой!.. Не подрались?
А. (мрачно). Куда там… мне с тобой. Да и твое обаяние… все симпатии были на твоей стороне. Ты всегда умел – выставить недруга ослом и мерзавцем.
Б. Дружи-ище! что за воспоминания! Клянусь – ничего не помню! Ну хочешь – хоть не знаю за что – попрошу сейчас у тебя прощения? Ну хочешь? Кстати – в чем было дело-то?..
А. (с театральной торжественностью). Поздно.
Б. Верно!..
А. Поздно. (Вертит рюмку, опускает глаза). Ты – ты не помнишь… Что я для тебя… оскорбление походя, право победителя… Были времена – я должен был бы убить тебя или застрелиться. А ныне – ничего, глотаем и утираемся…
Б. (холодно). Ты, похоже, не умеешь пить. Никогда, припоминаю, не отличался.
А. С тех пор я многое умею. Будь спок. (Наливает).
Б. (отчужденно). Твое здоровье.
А. Твое понадобится тебе больше.
Б. Чувствую, нам лучше расстаться сейчас. (Делает движение, чтобы встать).
А. (удерживает жестом). Прослушайте десятиминутную информацию. Так ты не помнишь? Начисто? Я так и подозревал. Ладно… (Откидывается на стуле, глубоко переводит дыхание, закуривает. На лице его появляется улыбка, которая в сочетании с угрюмым выражением придает ему неожиданную жесткость, даже властность.) Начнем. Ты помнишь Ведерникова, не правда ли?
Б. Слава богу. Естественно. Был у него несколько раз на приеме в Москве.
А. Знаю. (Неожиданно показывает Багулину фирменную этикетку на изнанке галстука, на внутреннем кармане пиджака.) Нравится?
Б. Англия… то что надо.
А. На инженерскую пенсию, мм? Уда-ачник… А фамилия Забродин тебе говорит что-нибудь? Из аппарата референтов Ведерникова?
Б. Слышал, похоже…
А. Прошу. (Протягивает паспорт).
Б. (озадачен). Не понимаю…
А. Я сменил фамилию перед войной. Взял фамилию жены. По некоторым обстоятельствам.
Б. (еще не осознал). Ты-ы?!
А. К вашим услугам. Ведерников два года как помер. Ушел и я. У новой метлы свой аппарат.
Б. Ты – Забродин?!
А. Осознал, похоже. Далее. Улавливаешь, нет? Ведерников тебя не слишком жаловал, нет? А?
Б. Сволочь был первостатейная.
А. (укоризненно). К чему категоричность? Деловые отношения!.. У такого человека всегда аппарат – своего рода фильтр-обогатитель между ним и сферой его деятельности. А в аппарате тоже люди. Большинство пружин ты, естественно, не знал. А я – не главный был винтик, но – в центральном механизме.
Вникаешь?
Когда в сорок восьмом году ты не получил комбинат, а прислали Гринько – это были просто три строки в докладной записке Ведерникову. Как и кем составляются записки – ты общее представление имеешь. А Гринько был, в общем, здорово нужен на Свердловск! Но – ма-аленький доворотик в начальной стадии движения. Ты ведь прицеливался тогда на комбинат – а он был фактически у тебя в кармане уже.
Б. (ошарашено и недоверчиво). Ты… ерунду ты говоришь!..
А. Хорошенькая ерунда! Гринько принял комбинат, ты стал замом, и после первого же квартала он свалил на тебя все шишки – он-то новый, а ты сидел уже два с половиной года. И тебя удвинули в Кемерово – где ты абсолютно правильно сориентировался, перешел в КТБ и занялся наукой.
Б. (говорить ему, в общем, нечего). Та-ак…
А. (в тон ему). Та-ак… И написал кандидатскую по расчетам нагрузки кабелей, и ВАК промариновал ее два с половиной года, та-ак?
Б. Ну…
А. Тпру!.. И за это время Плотников защитил в Москве свою диссертацию: фактически твой метод с расширенным применением. И его заявка была признана оригинальной, так что ты оставался даже без приоритета, а тема эта стала плотниковской, и он сделался на ней членкором! Как тормозится диссертация в ВАКе, тебе, надеюсь, не нужно долго объяснять. Что Плотников работает на Ведерникова, ты тоже, если и не знал, то мог догадываться. А кто приложил руку, чтоб ты не проскользнул? Пра-авильно…
Б. Слушай… Погоди… Слушай!.. (Машет рукой протестующе, как бы пытаясь задержать.)
А. (с лицемерной печалью). Мне очень жаль, что ты не помнишь то двенадцатое января на Демушкина. (Стукает ладонью по столу, начальственно и уверенно.)
Ты защитился, и как раз пошло расширение. И твое КТБ логически должно было бы отпочковаться и расшириться в институт. А вместо этого был создан однопрофильный институт в Омске! Ай-ай-ай какая досада, а? И сел на него Головин! И сейчас Головин – в министерстве! Ведерников? А что ему: «Доложить!» Естественно – доложил. Оч-чень, кстати, он мою память ценил. И благодаря моей памяти Каплин не взял тебя в Челябинск. А Плотников за это время стал доктором и получил Государственную! Так?
Б. Ну… (Совершенно смят, растерян и потерян.)
А. Щербину помнишь?
Б. Зав по кадрам?
А. Именно. Двоюродная сестра моей жены была его женой. Понял?
Б. Вот ка-ак…
А. И ты опять крутнулся, и перебрался в Красноярск, и скромно сел на отдел – отдел! Отметим должное – перспективный отдел, точно рассчитал. И защитил докторскую ты только в шестидесятом году – а был тебе уже пятьдесят один, и перспективным ты быть потихоньку переставал. И ВАК продержал твою докторскую еще четыре года, и когда в шестьдесят шестом получил институт – это был потолок. Потолок!
Б. (с выпущенным воздухом). Во-он оно что…
А. В шестьдесят восьмом тебе представился последний шанс, помнишь? Симпозиум в Риме через доклад в Москве, опять же через Ведерникова; определение основного направления дальнейших работ. И ты не поехал. Поехал Синицын. И кончилось тем, что Синицын тебя съел.
Вот и вся твоя карьера.
Б. (тупо). Я всегда чувствовал… Я всегда предполагал… Чья-то рука…
А. Верно чувствовал. Продолжаю. Раздел мелочей быта. Только, прошу, без эксцессов. Ну – когда ты еще такое узнаешь, а? Гамбургский счет. Мне, видишь ли, немного обидно, что ты совсем забыл тот вечер двенадцатого января.
Да. Мне всегда нравилось на тебя смотреть: такой красивый, уверенный, такой любимый женщинами. Рога очень тебе идут. Вообще, когда жена на двенадцать лет моложе – это чревато, ты не находишь?
Б. (тихо, багровея). Сотру, мразь!..
А. (холодно). Сначала имеет смысл получить информацию, нет? Итак: пятьдесят первый год, и она одна едет на курорт, Крым, ах, прелесть!.. Ты на что рассчитывал, юга не знаешь! И без меня обошлось бы. Но – можешь запомнить адресок: Москва, Воронцов проезд, двенадцать, сорок семь. Гонторев Алексей Семенович. Можешь процитировать своей супруге и насладиться ее реакцией. Это, видишь ли, мой старый знакомец, профессиональный, я бы сказал, бабник. Жизнь на это дело положил! После него ей с тобой в постели ну никак не могло быть интересно. Ты же в это время утрясал в Москве собственные дела. Ну, я и спросил как-то по телефону Будникова, где семейство твое. А Леша – Гонторев – как раз в отпуск ехал. Я и порекомендовал ему, с присовокуплением личной просьбы.
Б. Ложь, бред, ахинея!!.
А. Не думаю… Леше нет надобности хвастать… Да они письма мне показывал… Полюбопытствуй, заявись к нему. Да и поройся получше в памяти – как она вела себя с тобой первое время после того отпуска, – поймешь. Ты же самоуверен и слеп, как все супермены.
Б. (мотая головой). Вранье! Просто дохнешь от зависти, старый хрыч, перст без подпорки!
А. (иронично). Я?.. Не смеши. Я почти прадедушка. Четверо внуков. Какая зависть?
Б. (упрямо цепляясь). Все врешь. Нет никого и ничего у тебя! И не было!..
А. (издевательски). Прошу в гости. Приму в приличной квартире, те же шестьдесят пять метров, что у тебя. Дача – сносная, хотя и не в Кунцеве, все удобства. Еще что? Машина. Не люблю тупорылых «Фиатов». Серая «Волга», скромно и со вкусом. Не веришь? (С наслаждением, медленно вынимая из внутреннего кармана роскошный бумажник, из него – пачку фотографий и водительские права). Прошу.
Б. (неохота борется в нем с недоверием и любопытством. Смотри). Что ж. Поздравляю. Что еще имеете сообщить?
А. Не вспомнил двенадцатое января?
Б. (взрываясь). Нет! будь оно проклято! (С истерическим смешком). Кровавое двенадцатое января.
А. (светским тоном). Напоследок – пара милых пустяков. Дочь твоя кафедру в Киеве не получила и вряд ли получит. Колесницкому она, видишь ли, не нравится. Наберись нахальства – позвони ему, спроси, не поступала ли информация из Москвы. Колесницкий подчинен Семенову, а Семенов дружен со Щербиной. Крайне просто.
Б. Все?
А. С аспирантурой твоего наследника, куда он уже раз не прошел, вариант аналогичный.
Б. Все?
А. И логическое завершение. Сиди мужественнее, экс-мужчина. Нахожу уместным сейчас двум врагам, сидящим лицом к лицу и подводящим итоги, выпить за здоровье друг друга. (Пьет). А здоровье у тебя, милый мой, ни к черту. (Его начинает разбирать смех.) Ха-ха-ха! удачник! ха-ха-ха!
Б. (уничтоженный, скрывая тревогу). Ну?
А. (бессердечно). Ха-ха-ха! У тебя язва, да? Ха-ха-ха! Ох, прости! ха-ха!.. (Утирает слезы.) У тебя рак, любезный. Рак. И жена это знает. И дети. И если ты найдешь способ заглянуть в свою карточку, тоже узнаешь. И если просто перестанешь прятать от правды голову под крыло, то припомнишь все симптомы и сам поймешь.
Б. Откуда ты знаешь?
А. Разве я не могу по-хорошему поинтересоваться у врача здоровьем старого друга, дабы, скажем, облегчить его страдания дефицитным лекарством из Москвы?
Теперь – все.
Да. Объяснение.
Я-то, видишь ли, хорошо запомнил вечер двенадцатого января тридцать шестого года. Это не прощается. Жизнь с плевком твоим в душе прожил. Вот и разделал тебя под орех. Наилучшим образом и способом.
А сейчас – позвонил, узнал в горисполкоме твой день и часы приемные, специально прилетел. Ну, отдохнул заодно пару дней – можешь справиться в «Приморской» о моем счете. И встретил тебя – как хотел, нечаянно. Выслушал сначала твою собственную версию счастливой жизни. Ха-ха-ха! Удачник… Приехал пенсионер доживать старость в домике с садиком, так тут скоро и скапустится.
Б. Да что хоть было в тот чертов вечер?!
А. Вот вспоминай и мучься.
Б. (последняя вспышка сил). А меня ведь еще хватит на то, чтобы сейчас избить тебя.
А. Фу. Несолидно. Два старых человека. Меня ведь хватит еще на то, чтобы отравить тебе последний год существования. Излишки площади, излишки участка, заявление в милицию об избиении, письмо из Москвы – и никто тебя здесь не защитит.
Все. Свободен.
Б. (не находит ничего крепче театральной формулы). Будь ты проклят.
А. (ласково и недобро). Не волнуйся. А то еще вмажешься куда на своей жестянке. ГАИ – а ты пил, откупаться ремонт…
Некоторое время молча, неподвижно смотрят друг на друга. Причем сейчас:
Багулин – старик за семьдесят, очень усталый, одетый со смешной и жалкой претензией.
Арсений – собранный, жесткий, полный того, что принято называть нервной энергией. Строен, худощав, дорогие вещи сидят на нем свободно и небрежно.
Багулин поднимается и уходит, и хотя идет он сравнительно нормальной походкой, но кажется, что он горбится и шаркает ногами.
Уже темно. За стеклянной стеной в густой сини – мигающие огни самолетов. Зажигается свет.
Арсений смотрит вслед Багулину, достает носовой платок, отирает лицо и шею и – словно это был фокус с волшебным платком – неуловимо преображается в того старика, каким и был в начале встречи.
А. (внимательно оглядывает стол, считает в уме, достает бумажник, пересчитывает деньги. Облегченно). Хватает. Так и думал. Придется ехать общим. Ладно, меньше двух суток… (Говорит с собой негромко и спокойно, как человек, давно привыкший к одиночеству). Вот уж поистине – старческое безделье и маразм… Но крепко я его придавил. Крепко… Всему вроде поверил, а!.. А что – я весной месяц этим развлекался: все сходится… людей половина уже перемерла, – и при желании не опровергнет. С женой даже если – Лешка подтвердит… не-ет, психологически я тебя прищучил, Багулин. И диагнозу своему ты теперь до конца никогда не поверишь… нехай тебя покрючит. (Закуривает, закашливается, разгоняет дым рукой.)
Кхе! Кх-хе!.. Да. А ведь – боялся я тебя всегда, Багулин. И сейчас тоже… побаиваюсь. Ты – сильней… крупней, так сказать. И ничего, ничего мне было с тобой не сделать. Не убивать же, в самом деле.
Вот – сыграл наверняка. Без малейшего риска, друг мой. И разрушил изрядно всю твою жизнь, не правда ли? Не более чем сменой точек зрения.
Смешная жизнь – уничтожается сменой точки отсчета, а!..
А ведь даже пощечину дать тебе не посмел… Так и прожил жизнь с фигой в кармане. И под конец фугу эту показал. Ничтожество… А ты – да, так или иначе ты величина. Или – мнимая величина, если я тебя так?
Но ты не помнишь… Что же – тот вечер в итоге обошелся тебе дорого. Вспоминай! (Хихикает.) Это было не двенадцатого января, а шестого марта, ты можешь вспоминать долго!..
Ох, паспорт менять обратно… Ну вот же, засела заноза у старого обалдуя! Десять рублей… а пенсия двадцать четвертого. Ну… не помирать же под чужой фамилией. Поиздержался я, поиздержался… У Лешки одолжу, посмеемся в субботу над этой комедией!.. (Проходящей официантке). Счет, пожалуйста.
#62

 Отправлено 12 октября 2010 - 12:49
Отправлено 12 октября 2010 - 12:49

Ойнос. Прости, Агатос, немощь духа, лишь недавно наделенного бессмертием!
Агатос. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что следовало бы просить прощения. Даже и здесь познание не приобретается наитием. Что до мудрости, вопрошай без стеснения ангелов, и дастся тебе!
Ойнос. Но я мечтал, что в этом существовании я сразу стану всеведущим и со всеведением сразу обрету счастье.
Агатос. Ах, не в познании счастье, а в его приобретении! Вечно познавая, мы вечно блаженны; но знать все — проклятие нечистого.
Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?
Агатос. Это (ибо он и Всеблаженнейший) должно быть единственным, неведомым даже ему.
Ойнос. Но если познания наши растут с каждым часом, ужели мы наконец не узнаем всего?
Агатос. Направь взор долу, в бездну пространств! — попытайся продвинуть его вдоль бесчисленных звездных верениц, пока мы медленно проплываем мимо — так — и так! — и так! Разве даже духовное зрение не встречает повсюду преграды бесконечных золотых стен вселенной? — стен из мириад сверкающих небесных тел, одною своею бесчисленностью слитых воедино?
Ойнос. Вижу ясно, что бесконечность материи — не греза.
Агатос. В Эдеме нет грез, но здесь говорят шепотом, что единственная цель бесконечности материи — создать бесконечное множество источников, у которых душа может утолять жажду познания, вечно неутолимую в пределах материи, ибо утолить эту жажду — значит уничтожить бытие души. Вопрошай же меня, мой Ойнос, без смущения и страха. Ну же! — оставим слева громозвучную гармонию Плеяд и воспарим от престола к звездным лугам за Орион, где вместо фиалок и нарциссов расцветают тройные и троецветные солнца.
Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы в пути, наставь меня! — вещай мне привычным земным языком. Я не понимаю твоих слов: только что ты намекнул мне на образ или смысл того, что, будучи смертными, мы привыкли наименовать Творением. Не хочешь ли ты сказать, что Творец — не Бог?
Агатос. Я хочу сказать, что божество не творит.
Ойнос. Поясни.
Агатос. Только вначале оно творило. Те кажущиеся создания, которые ныне во всей вселенной постоянно рождаются для жизни, могут считаться лишь косвенными или побочными, а не прямыми или непосредственными итогами божественной творческой силы.
Ойнос. Среди людей, мой Агатос, эту идею сочли бы крайне еретической.
Агатос. Среди ангелов, мой Ойнос, очевидно, что она — всего лишь простая истина.
Ойнос. Насколько я могу тебя покамест понять, от некоторых действий того, что мы называем Природой или естественными законами, при известных условиях возникает нечто, имеющее полную видимость творения. Я отлично помню, что незадолго до окончательной гибели Земли было поставлено много весьма успешных опытов того, что у некоторых философов хватило неразумия назвать созданием animalculae[1].
Агатос. Случаи, о которых ты говоришь, на самом деле являлись примерами вторичного творения — единственной категории творения, имевшей место с тех пор, как первое слово вызвало к жизни первый закон.
Ойнос. А ужели звездные миры, что ежечасно вырываются в небеса из бездны небытия, — ужели все эти звезды, Агатос, не сотворены самим Царем?
Агатос. Позволь мне попытаться, мой Ойнос, ступень за ступенью подвести тебя к наедаемому пониманию. Ты отлично знаешь, что, подобно тому, как никакая мысль не мокнет погибнуть, так же всякое действие рождает бесконечные следствия. К примеру, когда мы жили па Земле, то двигали руками, и каждое движение сообщало вибрацию окружающей атмосфере. Эта вибрация беспредельно распространялась, пока не сообщала импульс каждой частице земного воздуха, в котором с той поры и навсегда нечто было определено единым движением руки. Этот факт был хорошо известен математикам нашей планеты. Они достигали особых эффектов при сообщении жидкости особых импульсов, что поддавалось точному исчислению — так что стало легко определить, за какой именно период импульс данной величины опояшет земной шар и окажет воздействие (вечное) на каждый атом окружающей атмосферы. Идя назад, они без труда могли по данному эффекту в данных условиях определить характер первоначального импульса. А математики, постигшие, что следствия каждого данного импульса абсолютно бесконечны и что часть этих следствий точно определима путем алгебраического анализа, а также то, что определение исходной точки не составляет труда, — эти ученые в то же время увидели, что сам метод анализа заключает в себе возможности бесконечного прогресса, что его совершенствование и применимость не знают пределов, за исключением умственных пределов тех. кто его совершенствует и применяет. Но тут наши математики остановились.
Ойнос. А почему, Агатос, им следовало идти дальше?
Агатос. Потому что им пришли в голову некоторые соображения, полные глубокого интереса. Из того, что они знали, можно было вывести, что наделенному бесконечным знанием, сполна постигшему совершенство алгебраического анализа не составит труда проследить за каждым импульсом, сообщенным воздуху, а также межвоздушному эфиру — до отдаленнейших последствий, что возникнут даже в любое бесконечно отдаленное время. И в самом деле, можно доказать, что каждый такой импульс, сообщенный воздуху, должен в конечном счете воздействовать на каждый обособленный предмет в пределах вселенной; — и существо; наделенное бесконечным знанием, — существо, которое мы вообразим, — способно проследить все отдаленные колебания импульса — проследить по восходящей все их влияния на каждую частицу материи — вечно по восходящей в их модификациях старых форм — или, иными словами, в их творении нового — пока не найдет их наконец-то бездейственными, отраженными от престола божества. И не только это, но если в любую эпоху дать ему некое явление — например, если предоставить ему на рассмотрение одну из этих бесчисленных комет, — ему бы не составило труда определить аналитическим путем, каким первоначальным импульсом она была вызвана к существованию. Эта возможность анализа в абсолютной полноте и совершенстве — эта способность во все эпохи относить все следствия ко всем причинам, конечно, является исключительной прерогативой божества — но в любой степени, кроме абсолютного совершенства, этою способностью обладают в совокупности все небесные Интеллекты.
Ойнос. Но ты говоришь всего-навсего об импульсах, сообщаемых воздуху.
Агатос. Говоря о воздухе, я касался только Земли; но общее положение относится к импульсам, сообщаемым эфиру, — а также как эфир, и только эфир, пронизывает все пространство, то он и является великой средой творения.
Ойнос. Стало быть, творит всякое движение, независимо от своей природы?
Агатос. Так должно быть; но истинная философия давно учит нас, что источник всякого движения — мысль, а источник всякой мысли…
Ойнос. Бог.
Агатос. Я поведал тебе как сыну недавно погибшей прекрасной Земли, Ойнос, об импульсах земной атмосферы.
Ойнос. Да.
Агатос. И пока я говорил, не проскользнула ли в твоем сознании некая мысль о материальной силе слов? Разве каждое слово — не импульс, сообщаемый воздуху?
Ойнос. Но почему, Агатос, ты плачешь? — и почему, о почему крыла твои никнут, пока мы парим над этой прекрасной звездой — самой зеленой и все же самой ужасной изо всех, увиденных нами в полете? Ее лучезарные цветы подобны волшебному сновидению — но ее яростные вулканы подобны страстям смятенного сердца.
Агатос. Это так, это так! Три столетия миновало с той поры, как, ломая руки и струя потоки слез у ног моей возлюбленной — я создал эту мятежную звезду моими словами — немногими фразами, полными страсти. Ее лучезарные цветы — и вправду самые дорогие из моих несбывшихся мечтаний, а яростные вулканы — и вправду страсти самого смятенного и нечестивого из сердец.
#63

 Отправлено 12 октября 2010 - 01:08
Отправлено 12 октября 2010 - 01:08

Рюноскэ Акутагава Нанкинский Христос
1
Была осенняя полночь. В Нанкине в доме на улице Циванцзе сидела бледная девушка-китаянка и, облокотившись на старенький стол, со скучающим видом грызла арбузные семечки, которые брала с лакированного подносика.
Лампа на столе светила слабо. Ее свет не столько рассеивал темноту, сколько усугублял унылый вид комнаты. В углу у стены с ободранными обоями свешивался пыльный полог над тростниковой кроватью, небрежно накрытой шерстяным одеялом. По другую сторону стола стоял, как будто позабытый, старенький стул. Кроме этих вещей, самый внимательный взгляд не обнаружил бы ничего, что могло бы служить украшением комнаты.
Но время от времени девушка переставала грызть семечки и, подняв ясные глаза, пристально смотрела на противоположную стену: в самом деле, там прямо перед ней на крючке скромно висело маленькое бронзовое распятие. А на нем смутной тенью вырисовывался полустертый незатейливый барельеф, изображавший распятого Христа с высоко раскинутыми руками. Каждый раз, когда девушка смотрела на этого Иисуса, выражение грусти за длинными ресницами на мгновенье исчезало, и вместо него в ее глазах загорался луч наивной надежды. Но девушка сейчас же отводила взгляд, каждый раз вздыхала, устало поводила плечами, покрытыми кофтой из черного шелка, и снова принималась грызть арбузные семечки.
Девушку звали Сун Цзинь-хуа, это была пятнадцатилетняя проститутка, которая, чтобы свести концы с концами, по ночам принимала в этой комнате гостей. Среди многочисленных проституток Циньвая девушек с такой наружностью, как у нее, безусловно, было много. Но чтобы нашлась другая с нравом столь же нежным, как у Цзинь-хуа, во всяком случае, сомнительно. Она, – в отличие от своих товарок, других продажных женщин, – не лживая, не взбалмошная, с веселой улыбкой развлекала гостей, каждую ночь посещавших ее угрюмую комнату. И если их плата изредка оказывалась больше условленной, она радовалась, что может угостить отца – единственного близкого ей человека – лишней чашечкой его любимого сакэ.
Такое поведение Цзинь-хуа, конечно, объяснялось ее характером. Но имелась еще и другая причина, а именно: она с детства придерживалась католической веры, в которой ее воспитала покойная мать, о чем свидетельствовало висевшее на стене распятие.
Кстати сказать, как-то раз у Цзинь-хуа из любопытства провел ночь молодой японский турист, приехавший весной этого года посмотреть шанхайские скачки и заодно полюбоваться видами Южного Китая. С сигарой в зубах, в европейском костюме, он беспечно обнимал маленькую фигурку Цзинь-хуа, сидевшую у него на коленях, и, случайно заметив крест на стене, недоверчиво спросил на ломаном китайском языке:
– Ты что, христианка?
– Да, меня крестили пяти лет.
– А занимаешься таким ремеслом?
В его голосе слышалась насмешка. Но Цзинь-хуа, положив к нему на руку головку с иссиня-черными волосами, улыбнулась, как всегда, светлой улыбкой, обнажавшей ее мелкие, ровные зубки.
– Ведь если б я не занималась этим ремеслом, и отец и я, мы оба умерли бы с голоду.
– А твой отец – старик?
– Да… он уже с трудом держится на ногах.
– Однако… Разве ты не думаешь о том, что если будешь заниматься таким ремеслом, то не попадешь на небо?
– Нет. – Мельком взглянув на распятие, Цзиньхуа задумчиво произнесла: – Я думаю, что господин Христос на небе сам, наверное, понимает, что у меня на сердце. Иначе господин Христос был бы все равно что полицейский из участка в Яоцзякао.
Молодой японский турист улыбнулся. Он пошарил в карманах пиджака, вытащил пару нефритовых сережек и сам вдел их ей в уши.
– Эти сережки я купил, чтобы отвезти их в подарок в Японию, но дарю их тебе на память об этой ночи.
И действительно, с той ночи, как она впервые приняла гостя, Цзинь-хуа была спокойна в этой своей уверенности.
Однако месяц спустя эта набожная проститутка, к несчастью, заболела: у ней появились злокачественные сифилитические язвы. Услышав об этом, ее товарка Чэн Шань-ча посоветовала ей пить опийную водку, уверяя, что это унимает боль. Потом другая ее товарка – Мао Ин-чунь – с готовностью принесла ей остатки пилюль «гунланьвань»[1] и «цзялуми»[2], которые она сама употребляла. Но, несмотря на то, что Цзинь-хуа сидела взаперти, не принимала гостей, здоровье ее почему-то нисколько не улучшалось.
И вот однажды Чэн Шань-ча, зайдя навестить Цзинь-хуа, с полной убежденностью сообщила ей такой (явно основанный на суеверии) способ лечения:
– Раз твоя болезнь перешла на тебя от гостя, то поскорей отдай ее кому-нибудь обратно. И тогда ты через два-три дня будешь здорова.
Цзинь-хуа сидела, подперев щеку рукой, и подавленное выражение ее лица не изменилось. Но, по-видимому, слова Шань-ча пробудили в ней некоторое любопытство, и она коротко переспросила:
– Правда?
– Ну да, правда! Моя сестра тоже никак не могла поправиться, вот как ты сейчас. А как передала болезнь гостю, сразу же выздоровела.
– А гость?
– Гостя-то жаль! Говорят, он от этого даже ослеп.
Когда Шань-ча ушла, Цзинь-хуа, оставшись одна, опустилась на колени перед распятием и, подняв глаза на распятого Христа, стала горячо молиться:
– Господин Христос на небесах! Для того чтоб кормить моего отца, я занимаюсь презренным ремеслом. Но мое ремесло позорит только меня, а больше я никому не причиняю зла. Поэтому я думаю, что, даже если я умру такой как есть, все равно я непременно попаду на небо. Но теперь я могу продолжать заниматься своим ремеслом, только если передам болезнь гостю. Значит, пусть даже мне придется умереть с голода, – а тогда болезнь тоже пройдет, – я должна решить не спать больше ни с кем в одной постели. Ведь иначе я ради своего счастья погублю человека, который не сделал мне никакого зла! Но я все-таки женщина. Я могу в какую-то минуту поддаться соблазну. Господин Христос на небесах! Пожалуйста, оберегайте меня! Кроме вас, мне не от кого ждать помощи.
Приняв такое решение, Цзинь-хуа, как ни уговаривали ее Шань-ча и Ин-чунь, больше не пускала к себе гостей. А если иногда к ней заходили ее постоянные гости, она позволяла себе только посидеть, покурить с ними и больше не исполняла никаких их желаний.
– У меня страшная болезнь. Если вы ляжете со мной, она пристанет к вам, – говорила Цзинь-хуа всегда, когда пьяный гость все же пытался насильно ею овладеть, и даже не стыдилась показывать доказательства своей болезни. Поэтому гости постепенно перестали к ней ходить. И жить ей становилось день ото дня труднее.
В этот вечер она долго сидела, облокотившись на стол, ничего не делая и задумчиво глядя перед собой. Гости по-прежнему не заходили к ней. А тем временем надвигалась ночь, все затихло, и до ушей Цзиньхуя откуда-то доносилось только стрекотанье сверчка. К тому же в нетопленой комнате от каменного пола поднимался холод, который, как вода, пропитал сначала ее серые шелковые туфельки, а потом и изящные ножки в этих туфельках.
Цзинь-хуа некоторое время задумчиво смотрела на тусклый свет лампы, потом вздрогнула и подавила легкую зевоту. Почти в ту же минуту крашеная дверь вдруг открылась от толчка, и в комнату ввалился незнакомый иностранец. Вероятно, оттого, что дверь распахнулась настежь, лампа на столе вспыхнула, и темная комната озарилась странным красным коптящим светом. Гость, с ног до головы озаренный этим светом, отступил назад и тяжело прислонился к крашеной двери, которая тут же захлопнулась.
Цзинь-хуа невольно поднялась и изумленно уставилась на этого незнакомого иностранца. Гостю было лет тридцать пять, это был загорелый бородатый мужчина с большими глазами, в коричневом полосатом пиджаке и в такой же кепке. Одно только было непонятно: хотя он, несомненно, был иностранцем, но, как ни странно, по его виду нельзя было определить, азиат он или европеец. Когда он, с выбившимися из-под кепки черными волосами, с потухшей трубкой в зубах, встал у входа, заслоняя собой дверь, его можно было принять за мертвецки пьяного прохожего, который забрел сюда по ошибке.
– Что вам угодно? – почти с укором в голосе спросила несколько испуганная Цзинь-хуа, не выходя из-за стола. Гость покачал головой, показывая, что не понимает по-китайски. Потом вынул изо рта трубку и произнес какое-то непонятное иностранное слово. На этот раз Цзинь-хуа пришлось покачать головой, от чего нефритовые серьги сверкнули в свете лампы.
Увидев, как она в замешательстве нахмурила свои красивые брови, гость вдруг громко захохотал, непринужденно сбросил кепку и, пошатываясь, направился к ней. Обессиленно опустился на стул, стоявший по другую сторону стола. В эту минуту он показался Цзинь-хуа каким-то близким, как будто она раньше его уже видела, хотя и не могла вспомнить, где и когда. Гость бесцеремонно сгреб с подносика горсть арбузных семечек, но грызть их не стал, а только пристально посмотрел на Цзинь-хуа и опять, странно жестикулируя, заговорил на иностранном языке. Цзиньхуа не поняла смысла его речи, но, хоть и смутно, все же догадалась, что гость имеет представление о том, чем она занимается.
Проводить долгие ночи с иностранцами, не понимающими по-китайски, не представляло для Цзиньхуа ничего необычного. Поэтому она опять села и, улыбаясь приветливой улыбкой, что почти вошло у нее в привычку, принялась болтать, усыпая свою речь совершенно непонятными гостю шутками. Однако гость через два слова в третье так весело хохотал, словно понимал ее, и при этом жестикулировал еще быстрей, чем раньше.
От гостя пахло водкой, но на его пьяном красном лице была разлита такая мужественная жизненная сила, что казалось, в этой унылой комнате стало светлей. Во всяком случае, в глазах Цзинь-хуа он был прекраснее всех иностранцев, которых она до сих пор видела, не говоря уже о ее соотечественниках из Нанкина. Тем не менее она никак не могла отделаться от ощущения, что где-то раньше встречалась с ним. Глядя на его свешивающиеся на лоб черные кудрявые волосы и все время весело улыбаясь, она изо всех сил старалась вспомнить, где же она видела это лицо раньше.
«Не тот ли это, который ехал с толстой женой на шаланде? Нет, нет, тот гораздо рыжее. А может быть, это тот, который фотографировал мавзолей Кун-цзы[3] в Циньвае? Но тот был как будто старше этого гостя. Да, да, однажды я видела, как перед рестораном у моста в Лидацяо толпился народ и какой-то человек, точь-в-точь похожий на этого гостя, толстой палкой бил по спине рикшу. Пожалуй… однако у того глаза как будто были синее».
Пока Цзинь-хуа раздумывала об этом, иностранец все с тем же веселым видом набил трубку и, закурив, выпустил приятно пахнущий дым. Потом он вдруг опять что-то сказал, засмеялся, на этот раз тихонько, и, подняв два пальца, поднес их к глазам Цзиньхуа, показывая жестом: «два». Что два пальца обозначают два доллара, это, разумеется, было известно всем. Однако Цзинь-хуа, больше не принимавшая гостей, по-прежнему ловко щелкала семечки и, тоже улыбаясь, в знак отказа два раза отрицательно покачала головой. Тогда гость, нахально облокотившись на стол, при слабом свете лампы придвинул свое осоловелое лицо к самому лицу Цзинь-хуа и пристально на нее уставился, а потом с выжидательным видом поднял три пальца.
Цзинь-хуа, все еще с семечками в зубах, немного отодвинулась, и лицо ее выразило смущение. Гость, по-видимому, подумал, что она не отдается за два доллара. А между тем было совершенно невозможно объяснить ему, в чем дело, раз он не понимает по-китайски. Горько раскаиваясь в своем легкомыслии, Цзинь-хуа холодно отвела глаза в сторону и волей-неволей еще раз решительно покачала головой.
Однако иностранец, слегка улыбнувшись и как будто немного поколебавшись, поднял четыре пальца и снова сказал что-то на иностранном языке. Вконец растерявшись, Цзинь-хуа подперла щеку рукой и не в состоянии была даже улыбнуться, но в эту минуту она решила, что, раз уж дело так обернулось, ей остается только качать головой до тех пор, пока гостю не надоест. Но тем временем на руке гостя, как будто хватая что-то невидимое, раскрылись все пять пальцев.
Потом в течение долгого времени они вели разговор с помощью мимики и жестов. Настойчиво прибавляя по одному пальцу, гость в конце концов показал, что ему не жалко даже десяти долларов. Но даже десять долларов, большая сумма для проститутки, не поколебали решения Цзинь-хуа. Еще раньше встав со стула, она стояла боком к столу, и когда гость показал ей пальцы обеих рук, она сердито топнула ногой и несколько раз подряд покачала головой. В тот же миг распятие, висевшее на стене, почему-то сорвалось с крючка и с легким звоном упало на каменный пол к ее ногам.
Цзинь-хуа поспешно протянула руку и бережно подняла распятие. В эту минуту она случайно взглянула на лицо распятого Христа, и, странная вещь, это лицо оказалось живым отображением лица иностранца, сидевшего за столом.
«То-то мне показалось, что я где-то раньше его видела, – ведь это лицо господина Христа!»
Прижимая бронзовое распятие к груди, покрытой черной шелковой кофтой, Цзинь-хуа ошеломленно уставилась на сидевшего против нее гостя. Гость, у которого красное от вина лицо по-прежнему было освещено лампой, время от времени попыхивал трубкой и многозначительно улыбался. И его глаза не отрываясь скользили по ее фигурке, по белой шее и ушам, с которых свешивались нефритовые серьги. Но Цзиньхуа казалось, что даже в таком виде он полон какого-то мягкого величия.
Немного погодя гость вынул трубку изо рта и, многозначительно наклонив голову, смеющимся голосом что-то сказал. Эти слова подействовали на Цзиньхуа, как шепот искусного гипнотизера. Не забыла ли она о своем великодушном решении? Опустив улыбающиеся глаза и перебирая руками бронзовое распятие, она стыдливо подошла к таинственному иностранцу.
Гость пошарил в кармане брюк и, побрякав серебром, некоторое время, любуясь, смотрел на Цзиньхуа смеющимися, как и прежде, глазами. Но вдруг улыбка в его глазах сменилась горячим блеском, гость вскочил со стула и, крепко обняв Цзинь-хуа, прижал ее к своему пахнущему водкой пиджаку. Цзинь-хуа, словно теряя сознание, с запрокинутой головой, со свешивающимися нефритовыми сережками, но с румянцем на бледных щеках, зачарованно смотрела в его лицо, придвинувшееся прямо к ее глазам. Разумеется, ей уже было не до того, чтобы раздумывать, отдаться ли этому странному иностранцу или уклониться от его поцелуя из опасения заразить гостя. Подставляя губы его бородатому рту, Цзинь-хуа знала только одно – что ее грудь заливает радость жгучей, радость впервые познанной любви.
2
Через несколько часов в комнате с уже потухшей лампой еле слышное стрекотанье кузнечиков придавало осеннюю грусть сонному дыханию двух людей, доносящемуся с постели. Но сон, который в это время снился Цзинь-хуа, вознесся из-под пыльного полога кровати высоко-высоко над крышей в лунную звездную ночь.
…Цзинь-хуа сидела на стуле из красного сандалового дерева и кушала палочками разные блюда, расставленные на столике. Тут были ласточкины гнезда, акульи плавники, тушеные яйца, копченый карп, жареная свинина, уха из трепангов – всего не перечесть. А посуда вся состояла из красивых блюд и мисок, сплошь расписанных голубыми лотосами и золотыми фениксами.
За ее спиной было окно, завешенное кисейной занавеской, и оттуда – там, должно быть, протекала река – слышалось непрестанное журчанье воды и всплеск весел. Цзинь-хуа казалось, будто она в своем родном с детства Циньвае, Но она, несомненно, находилась сейчас в небесном граде, в доме у Христа.
Время от времени Цзинь-хуа опускала палочки и осматривалась кругом. Но в просторной комнате видны были только столбы с резными фигурами драконов и горшки с большими хризантемами, окутанные паром от кушаний; кроме нее, больше не было ни души.
И все же, как только блюдо пустело, перед глазами Цзинь-хуа, распространяя теплый аромат, откуда-то появлялось другое. И вдруг жареный фазан, к которому она еще не успела прикоснуться, захлопал крыльями и, опрокинув сосуд с вином, взвился к потолку.
В это время Цзинь-хуа заметила, что кто-то неслышно подошел сзади к ее стулу. Поэтому, не кладя палочек, она быстро оглянулась. Там, где, как она почему-то думала, должно было находиться окно, вместо окна на стуле из сандалового дерева, застланном атласным покрывалом, с длинной бронзовой трубкой для кальяна в зубах величественно сидел незнакомый иностранец.
Цзинь-хуа с первого же взгляда увидела, что это тот самый мужчина, который пришел к ней сегодня ночью. Только над головой этого иностранца, на расстоянии одного сяку, висел в воздухе тонкий светящийся ободок, похожий на трехдневный месяц.
Тут вдруг перед Цзинь-хуа, как будто выскочив прямо из стола, появилось на большом блюде вкусное ароматное кушанье. Она сейчас же протянула палочки и хотела было взять лакомый кусочек, но вдруг вспомнила о сидящем сзади иностранце, оглянулась через плечо и застенчиво сказала:
– Не сядете ли и вы сюда?
– Нет, ешь одна. Если ты съешь это, то твоя болезнь за ночь пройдет.
Иностранец с нимбом, не вынимая изо рта длинной трубки для кальяна, улыбнулся улыбкой, исполненной беспредельной любви.
– Значит, вы не хотите покушать?
– Я? Я не люблю китайской кухни. Ты меня еще не узнала? Иисус Христос никогда не ел китайских блюд.
Сказав это, нанкинский Христос медленно поднялся с сандалового стула и, подойдя сзади, нежно поцеловал в щеку ошеломленную Цзинь-хуа.
Цзинь-хуа очнулась от райского сна, когда по тесной комнате уже разливался холодный осенний рассвет. Но под пыльным пологом в постели, похожей на лодочку, еще царил теплый полумрак. В этой полутьме смутно вырисовывалось запрокинутое, с еще закрытыми глазами, лицо Цзинь-хуа, закутанной по самый подбородок в выцветшее старое шерстяное одеяло. На бледных щеках, вероятно от ночного пота, слиплись спутанные напомаженные волосы, а между полураскрытыми губами, как крупинки риса, чуть белели мелкие зубки.
Хотя Цзинь-хуа проснулась, душа ее еще бродила среди видений ее сна – пышные хризантемы, плеск воды, жареные фазаны, Иисус Христос… Но под пологом становилось все светлей, и в ее блаженные грезы стало вторгаться отчетливое сознание грубой действительности, сознание того, что вчера она легла на эту тростниковую постель вместе с таинственным иностранцем.
«А вдруг болезнь пристанет к нему…»
От этой мысли Цзинь-хуа сразу стало тяжело, и ей показалось, что она не в силах будет сегодня утром еще раз взглянуть ему в лицо. Но, уже проснувшись, все еще не видеть его милого загорелого лица было для нее еще тяжелей. Поэтому, немного поколебавшись, она робко открыла глаза и окинула взглядом постель под пологом, где уже стало совсем светло. Однако, к ее удивлению, в комнате, кроме нее самой, закутанной в одеяло, не было не только иностранца с лицом, похожим на распятого Христа, но и вообще никого.
«Выходит, и это мне приснилось»…
Цзинь-хуа сбросила грязное одеяло и привстала. Затем, протерев обеими руками глаза, она приподняла тяжело свисавший полог и все еще заспанными глазами оглядела комнату.
В комнате в холодном утреннем воздухе все предметы вырисовывались с беспощадной отчетливостью. Старенький стол, потухшая лампа, стулья – один валялся на полу, другой был повернут к стене, – все было так же, как накануне вечером. Мало того, в самом деле, на столе, среди разбросанных арбузных семечек, тускло блестело маленькое бронзовое распятие. Мигая ослепленными глазами и оглядывая комнату, Цзинь-хуа некоторое время сидела на смятой постели и, зябко поеживаясь, не двигалась с места.
– Нет, это был не сон… – прошептала Цзинь-хуа, думая о непонятном исчезновении иностранца. Конечно, можно было подумать, что он потихоньку ушел из комнаты, пока она спала. Но ей не верилось, что он, так горячо ее ласкавший, ушел, не сказав ни слова на прощанье, – вернее, ей было слишком тяжело этому поверить. К тому же она забыла получить у таинственного иностранца обещанные десять долларов.
«Неужели он и вправду ушел?»
С тяжелым сердцем она хотела было надеть сброшенную на одеяло черную шелковую кофту. Но вдруг ее протянутая рука остановилась, и лицо залила живая краска. Услышала ли она за крашеной дверью звук шагов таинственного иностранца или запах водки, пропитавший подушки и одеяла, пробудил смутившие ее воспоминания ночи? Нет, в этот миг Цзиньхуа почувствовала, что благодаря чуду, свершившемуся в ее теле, злокачественные сифилитические язвы за одну ночь бесследно исчезли.
«Значит, это был Христос!»
Не помня себя, она в одной рубашке чуть не скатилась с постели и, преклонив колена на холодном каменном полу, как прекрасная Мария из Магдалы, беседовавшая с воскресшим господом, вознесла горячую молитву.
3
Однажды вечером весной следующего года молодой японский турист, который когда-то уже посещал Цзинь-хуа, опять сидел против нее за столом при тусклом свете лампы.
– А распятие-то все еще висит? – заметил он в разговоре слегка насмешливым тоном, и тогда Цзиньхуа, сразу же сделавшись серьезной, рассказала ему удивительную историю о том, как Христос, сойдя однажды ночью в Нанкин, исцелил ее от болезни.
Слушая этот рассказ, молодой японский турист думал про себя вот что:
«Я знаю этого иностранца. Это японо-американский метис. Зовут его, кажется, Джордж Мерри. Он хвастался моему знакомому корреспонденту из агентства Рейтер, что однажды в Нанкине провел ночь с проституткой, с христианкой, а когда она сладко заснула, потихоньку сбежал. Когда я прошлый раз был в Нанкине, он как раз остановился в том же отеле, что и я, так что в лицо я его до сих пор помню. Он выдавал себя за корреспондента английской газеты, но был совершенно недостойный, дурной человек. Потом он на почве сифилиса сошел с ума… Выходит, что он, пожалуй, заразился от этой женщины. А она до сих пор принимает этого беспутного метиса за Христа! Открыть ли ей глаза? Или промолчать и оставить ее навеки в этом сне, похожем на старинные западные легенды?..»
Когда Цзинь-хуа кончила, он, как будто опомнившись, зажег спичку и закурил душистую сигару. И, нарочно приняв заинтересованный вид, выжал из себя вопрос:
– Вот как… Странно. И ты ни разу с тех пор не болела?
– Нет, ни разу, – не колеблясь ответила Цзиньхуа с ясным лицом, продолжая грызть арбузные семечки.
22 июня 1920 г.
Примечания
1
Пилюли с ртутью против сифилиса.
(обратно) 2
Мазь с каломелью против сифилиса.
(обратно) 3
Великий китайский мыслитель Конфуций (551—497 гг. до н.э.).
#64

 Отправлено 12 октября 2010 - 01:22
Отправлено 12 октября 2010 - 01:22

Рюноскэ Акутагава В чаще
ЧТО СКАЗАЛ НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА ДРОВОСЕК
Да. Это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел подальше в горы нарубить деревьев. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в четырех-пяти те от проезжей дороги на Ямасина. Это безлюдное место, где растет бамбук вперемежку с молоденькими криптомериями.
На трупе были бледно-голубой суйкан и поношенная шапка эбоси, какие носят в столице; он лежал на спине. Ведь вот какое дело, на теле была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла. Рана, видно, уже запеклась. Да, вот еще что; на ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод.
Не видно ли было меча или чего-нибудь в этом роде? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерии, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще… да, да, кроме веревки, там был еще гребень. Бот и все, что было возле тела – только эти две вещи. А трава и опавшая листва кругом были сильно истоптаны – видно, убитый не дешево отдал свою жизнь. Что, не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога – она подальше, за рощей.
ЧТО СКАЗАЛ НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА СТРАНСТВУЮЩИЙ МОНАХ
С убитым я встретился вчера. Вчера… кажется, в полдень. Где? На дороге от Сэкияма в Ямасина. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Сэкияма. На женщине была широкополая шляпа с покрывалом, так что лица ее я не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Лошадь была рыжеватая, с подстриженной гривой. Рост? Что-то около четырех сун выше обычного… Я ведь монах, в таких вещах худо разбираюсь. У мужчины… да, у него был и меч за поясом, и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчана торчало штук двадцать стрел.
Мне и во сне не снилось, что он так кончит. Поистине, человеческая жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния. Ох, ох, словами не сказать, как все это прискорбно.
ЧТО СКАЗАЛ НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА СТРАЖНИК
Человек, которого я поймал? Это – знаменитый разбойник Тадземару. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал, стеная, на каменном мосту, что у Авадагути. Когда? Прошлым вечером, в часы первой стражи. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан и меч за поясом. А на этот раз у него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были у убитого? Ну, в таком случае убийство, без сомнения, совершил Тадземару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, семнадцать стрел с ястребиными перьями – все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы изволили сказать, была рыжеватая, с подстриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста, и за ней волочились длинные поводья.
Этот самый Тадземару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице, падок до женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акиторибэ, посвященном Биндзуру, убили женщину с девочкой, по-видимому, паломников? Так вот, говорили, что это дело его рук. Бот и женщина, что ехала на рыжеватой лошади – если он убил мужчину, то куда девалась она, что с ней сталось? Неизвестно. Извините, что вмешиваюсь, но надо бы это расследовать.
ЧТО СКАЗАЛА НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА СТАРУХА
Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы. Он самурай из Кокуфу и Вакаса. Зовут его Канадзава Такэхиро, лет ему двадцать шесть. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы – у него был очень мягкий характер.
Моя дочь? Ее зовут Масаго, ей девятнадцать лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюбленного до Такэхиро. Она смуглая, возле уголка левого глаза у нее родинка, лицо маленькое и продолговатое.
Вчера Такэхиро с моей дочерью отправился в Вакаса. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье! Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тревога за дочь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего святого – обыщите все леса и луга, только найдите мою дочь! Какой злодей этот разбойник Тадземару или как его там! Не только зятя, но и мою дочь… (Плачет, не в силах сказать ни слова.)
ПРИЗНАНИЕ ТАДЗЕМАРУ
Того человека убил я. Но женщину я не убивал. Куда она делась? Этого и я тоже не знаю. Постойте! Сколько бы вы меня ни пытали, я ведь все равно не смогу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить и не буду ничего скрывать.
Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг – мелькнуло и сразу же снова скрылось – и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось мне ликом бодисатвы. И я тут же решил, что завладею женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину.
Вам кажется это страшно? Пустяки, убить мужчину – обыкновенная вещь! Когда хотят завладеть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом, а вот вы все не прибегаете к мечу, вы убиваете властью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается, мужчина остается целехонек – и все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелей – ваша или моя – кто знает?! (Ироническая усмешка.) Но это не значит, что я недоволен, если удается завладеть женщиной, не убивая мужчины. А на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такой штуки не проделать. Поэтому я придумал, как заманить их обоих в глубь рощи.
Это оказалось нетрудно. Пристав к ним как попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган, что я его раскопал, нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у гори, чтобы никто не видел, и что, если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот – что бы вы думали! Страшная вещь алчность! Не прошло и получаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе.
Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчину снедала жадность, и он, конечно, не стал возражать. Но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне разумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как по маслу, и я повел мужчину в чащу, оставив женщину одну.
На окраине заросли рос только бамбук. Но когда мы прошли около полпути, стали попадаться и криптомерии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Раздвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровища зарыты под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже, уже вокруг стояли криптомерии – и тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. И он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка? Какой же разбойник бывает без веревки? Веревка была у меня за поясом – ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через изгородь. Разумеется, чтоб он не мог кричать, я забил ему рот опавшими бамбуковыми листьями, и больше с ним возиться было нечего.
Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно занемог и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Незачем и говорить, что и на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла в глубь рощи. Но когда мы пришли и тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увернулся, но она ожесточенно наносила удары куда попало. Но ведь недаром я Тадземару – мне в конце концов удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделать. И вот я наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину.
Да, не лишая жизни мужчину. Я и после этого не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи, оставив лежащую в слезах женщину, она вдруг как безумная вцепилась мне в рукав и, задыхаясь, крикнула: «Или вы умрете, или мой муж… кто-нибудь из вас двоих должен умереть… Быть опозоренной на глазах двоих мужчин хуже смерти… Один из вас должен умереть… а я пойду к тому, кто останется в живых». И вот тогда мне захотелось убить мужчину. (Мрачное возбуждение.) Теперь, когда я вам это сказал, наверно, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины. Потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня охватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте. Сделать ее своей женой – только эта мысль и была у меня в голове. Нет, это не была грубая похоть, как вы думаете. Если бы мною владела только похоть, я отшвырнул бы женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обагрить мой меч своею кровью. Но в то мгновение, когда в сумраке чащи я вгляделся в лицо женщины, я решил, что не уйду оттуда, пока его не убью.
Однако хотя я и решил его убить, но не хотел убивать его подло. Я развязал его и сказал: будем биться на мечах. Веревка, что нашли у корней дерева, это и была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же, не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился этот бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе – прошу вас, не забудьте этого! Я до сих пор поражаюсь: во всем мире он один двадцать раз скрестил свой меч с моим. (Веселая улыбка.) Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но – представьте себе, ее нигде не было! Я стал искать среди деревьев. Но на опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. А когда я прислушался, то услышал только предсмертное хрипенье в горле у мужчины.
Может быть, когда мы начали биться, женщина ускользнула из рощи, чтобы позвать на помощь? Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взял у убитого меч, лук и стрелы и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву лошадь женщины. Говорить о том, что было после – значит напрасно тратить слова. Только вот что: перед въездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. Подвергните меня самой жестокой казни – я ведь всегда знал, что когда-нибудь моей голове придется торчать на верхушке столба. (Вызывающий вид.)
ЧТО РАССКАЗАЛА ЖЕНЩИНА НА ИСПОВЕДИ В ХРАМЕ КИЕМИДЗУ
Овладев мною, этот мужчина в синем обернулся к моему связанному мужу и насмешливо захохотал. Как тяжело, наверно, было мужу! Но как он ни извивался, опутывавшая его веревка только глубже врезалась в тело. Я невольно вся подалась к нему – нет, я только хотела податься. Но тот мужчина мгновенно пинком ноги швырнул меня на землю. И вот тогда это и случилось. В этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неописуемый блеск. Неописуемый… даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь. Не в силах выговорить ни единого слова, муж в это мгновение излил всю свою душу во взгляде. Но его глаза выражали не гнев, не страдание – в них сверкало холодное презрение ко мне, вот что они выражали! Не от пинка того мужчины, а от ужаса перед этим взглядом я, не помня себя, вскрикнула и лишилась чувств.
Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И только к стволу криптомерии по-прежнему был привязан мой муж. С трудом поднимаясь с опавших бамбуковых листьев, я пристально смотрела ему в лицо. Но взгляд его нисколько не изменился. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствовала… и стыд, и печаль, и гнев… Шатаясь, я поднялась и подошла к мужу.
«Слушайте! После того, что случилось, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Но… но умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых». Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волнение, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать его меч. Но, вероятно, все похитил разбойник – не только меча, но даже и лука и стрел нигде в чаще не было видно. Только кинжал, к счастью, валялся у моих ног. Я занесла кинжал и еще раз сказала мужу: «Теперь я лишу вас жизни. И сейчас же последую за вами».
Когда муж услышал эти слова, он с усилием пошевелил губами. Разумеется, голоса не было слышно, так как рот у него был забит бамбуковыми листьями. Но когда я посмотрела на его губы, то сразу все поняла, что он сказал. Все с тем же презрением ко мне муж проговорил одно слово: «Убивай». Почти в беспамятстве я глубоко вонзила кинжал в его грудь под бледно-голубым суйканом.
Кажется, тут я опять потеряла сознание. Когда, очнувшись, я оглянулась кругом, муж, по-прежнему связанный, уже не дышал. Сквозь густые ветви криптомерий, сплетенные со стволами бамбука, на его бледное лицо упал луч заходящего солнца. Подавляя рыдания, я развязала веревку на трупе. И потом… что стало со мной потом? Об этом у меня нет сил говорить. Что я ни делала, я не могла найти в себе силы умереть. Я подносила кинжал к горлу, я пыталась утопиться в озере у подножья горы, я пробовала… Но вот не умерла, осталась живой, и этим мне не приходится гордиться. (Грустная улыбка.) Может быть, милосердная, сострадательная богиня Каннон отвернулась от такого никчемного существа, как я. Но что же мне делать, мне, убившей своего мужа, обесчещенной разбойником, что мне делать? Что мне… мне… (Внезапные отчаянные рыдания.)
ЧТО СКАЗАЛ УСТАМИ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ ДУХ УБИТОГО
Овладев женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткнут. Сам я был привязан к стволу дерево. Но и все время делал жене знаки глазами: «Не верь ему! Все, что он говорит – ложь», – вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает слова разбойника. Я извивался от ревности. А разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели. Утратив чистоту, жить с мужем будет трудно. Чем оставаться с мужем, не лучше ли ей пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решился на бесчинство именно потому, что она ему полюбилась… Вот до чего он дерзко договорился.
Слушая разбойника, жена наконец задумчиво подняла лицо. Никогда еще я не видел ее такой красивой! Но что же ответила моя красавица жена разбойнику, когда я был, связанный, рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии, но каждый раз, как я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала жена: «Ну, так ведите меня, куда хотите». (Долгое молчание.) Но ее вина не только в этом. Из-за Этого одного я, наверно, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произошло: жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!..» – выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его!» – эти слова и теперь, как ураган, уносят меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь такие мерзкие слова исходили из человеческих уст? Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого слуха? Разве хоть когда-нибудь… (Внезапный взрыв язвительного хохота.) Услыхав эти слова, даже разбойник побледнел. «Убейте его!» – кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни «да», ни «нет» и вдруг пинком швырнул ее на опавшие листья. (Снова взрыв язвительного хохота.) Скрестив на груди руки, он обернулся ко мне. «Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой». Убить? За одни эти слова я готов все ему простить. (Снова долгое молчание.) Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать в глубь чащи. Разбойник в тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне казалось, что я все это вижу в бреду.
Когда жена убежала, разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал на мне веревку. Помню, как он пробормотал, скрываясь из рощи: «Теперь надо подумать и о себе».
Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду – рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же? Я понял, что это рыдаю я сам. (Третий раз долгое молчание.) Наконец я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни одна птица. Только на стволах криптомерий и бамбука горели печальные лучи закатного солнца. Закатного солнца… Но и они понемногу меркли. Уже не видно стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого на земле, окутала глубокая тишина.
И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это. Но все кругом застлал сумрак. И кто-то… этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнился хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия.
#65

 Отправлено 21 октября 2010 - 06:12
Отправлено 21 октября 2010 - 06:12

Предел желаний
В Нью-Йорке дверной звонок раздается как раз в тот момент, когда вы удобно устроились на диване, решив насладиться давно заслуженным отдыхом. Настоящая сильная личность, человек мужественный и уверенный в себе, cкажет: "Ну их всех к черту, мой дом - моя крепость, а телеграмму можно подсунуть под дверь". Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумаете, что, видно, блондинка из корпуса 12С пришла одолжить баночку селитры. Или вдруг нагрянул какой-то сумасшедший кинорежиссер, желающий поставить фильм по письмам, которые вы шлете матери в Санта-Монику. (А почему бы и нет? Ведь делают фильмы на куда худших материалах?!)
Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил не реагировать на звонок. Лежа на диване с закрытыми глазами, он громко сказал:
- Я никого не жду.
- Да, знаю, - отозвался голос по ту сторону двери.
- Мне не нужны энциклопедии, щетки и поваренные книги, сухо сообщил Эдельштейн. - Что бы вы мне не предложили, у меня это уже есть.
- Послушайте, - ответил голос. - Я ничего не продаю. Я хочу вам кое-что дать.
Эдельштейн улыбнулся тонкой печальной улыбкой жителя Нью-Йорка, которому известно: если вам преподносят в дар пакет, не помеченный "Двадцать долларов", то надеются получить деньги каким-то другим способом.
- Принимать что-либо бесплатно, - сказал Эдельштейн, - я тем более не могу себе поззволить.
- Но это действительно бесплатно, - подчеркнул голос за дверью. - Это ровно ничего не будет вам стоить ни сейчас, ни после.
- Не интересует! - заявил Эдельштейн, восхищаясь твердостью своего характера.
Голос не отозвался.
Эдельштейн произнес:
- Если вы еще здесь, то, пожалуйста, уходите.
- Дорогой мистер Эдельштейн, - мягко проговорили за дверью, - цинизм - лишь форма наивности. Мудрость есть проницательность.
- Он меня еще учит, - обратился Эдельштейн к стене.
- Ну, хорошо, забудьте все, оставайтесь при своем цинизме и национальных предрассудках, зачем мне это, в конце концов?
- Минуточку, - всполошился Эдельштейн. - Какие предрассудки? Насколько я понимаю, вы - просто голос с другой стороны двери. Вы можете оказаться католиком, или адвентистом седьмого дня, или даже евреем.
- Не имеет значения. Мне часто приходилось сталкиваться с подобным. До свиданья, мистер Эдельштейн.
- Подождите, - буркнул Эдельштейн.
Он ругал себя последними словами. Как часто он попадал в ловушки, оканчивающиеся, например, покупкой за 10 долларов иллюстрированного двухтомника "Сексуальная история человечества", который, как заметил его друг Манович, можно приобрести в любой лавке за 2.98!
Но голос уйдет, думая: "Эти евреи считают себя лучше других!.." Затем поделится своими впечатлениями с другими при очередной встрече "Лосей" или "Рыцарей Колумба", и на черной совести евреев появится новое пятно.
- У меня слабый характер, - печально прошептал Эдельштейн. А вслух сказал:
- Ну, хорошо, входите! Но предупреждаю с самого начала: ничего покупать не собираюсь.
Он заставил себя подняться, но замер, потому что голос ответил: "Благодарю вас", и вслед за этим возник мужчина, прошедший через закрытую, запертую на два замка дверь.
- Пожалуйста, секундочку, задержитесь на одну секундочку, - взмолился Эдельштейн. Он обратил внимание, что слишком сильно сжал руки и что сердце его бьется необычайно быстро.
Посетитель застыл на месте, а Эдельштейн вновь начал думать.
- Простите, у меня только что была галлюцинация.
- Желаете, чтобы я еще раз вам это продемонстрировал? осведомился гость.
- О Боже, конечно нет! Итак, вы прошли сквозь дверь! О Боже, Боже, кажется я попал в переплет!
Эдельштейн тяжело опустился на диван. Гость сел на стул.
- Что происходит? - прошептал Эдельштейн.
- Я пользуюсь подобным приемом, чтобы сэкономить время, объяснил гость. - Кроме того, это обычно убеждает недоверчевых. Мое имя Чарлз Ситвел. Я полевой агент Дьявола... Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа.
- Как я могу вам поверить? - спросил Эдельштейн.
- На слово, - ответил Ситвел. - Последние пятьдесят лет идет небывалый приток американцев, нигерийцев, арабов и израильтян. Так же мы впустили больше, чем обычно, китайцев, а совсем недавно начали крупные операции на южноамериканском рынке. Честно говоря, мистер Эдельштейн, мы перегружены душами. Боюсь, что в ближайшее время придется объявить амнистию по мелким грехам.
- Так вы явились не за мной?
- О Дьявол, нет! Я же вам говорю: все круги ада переполнены!
- Тогда зачем вы здесь?
Ситвел порывисто подался вперед.
- Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на "Юнайтед стэйтс стил". У нас гигантский размах и мы более или менее монополия. И, как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали.
- Разумно, - заметил Эдельштейн.
- Однако нам заказано устраивать, подобно Форду, фирменные школы и мастерские - неправильно поймут. По той же причине мы не можем возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-то не поинтересовался нашими мотивами.
- Я понимаю ваши трудности, - признал Эдельштейн.
- И все же мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени, но особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов.
- Клиент? Я?
- Никто не назовет вас грешником, - успокоил Ситвел. - Я сказал "потенциальных" - это означает всех.
- А... Что за премии?
- Три желания, - произнес Ситвел живо. - Это традиционная форма.
- Давайте разберемся, все ли я понимаю, - попросил Эдельштейн. - Вы исполните три любых моих желания? Без вознаграждения? Без всяких "если" и "но"?
- Одно "но" будет, предупредил Ситвел.
- Я так и знал, - вздохнул Эдельштейн.
- Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвое.
Эдельштейн задумался.
- То есть, если я попрошу миллион долларов...
- Ваш враг получит два миллиона.
- А если я попрошу пневмонию?
- Ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию.
Эдельштейн поджал губы и покачал головой.
- Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела, но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента?
- Риск, мистер Эдельштейн, но он совершенно необходим по двум причинам, - ответил Ситвел. - Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз.
- Простите, я не совсем...
- Попробуем по-другому. Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах. Ведь желание - чрезвычайно мощное орудие.
- Представляю, - кивнул Эдельштейн. - А вторая причина?
- Вы бы уже могли догадаться, - сказал Ситвел, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки. - Подобные пункты являются нашим, если можно так выразиться, фирменным знаком. Клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт.
- Понимаю, понимаю, - произнес Эдельштейн. - Но мне потребуется некоторое время на размышление.
- Предложение действительно в течение тридцати дней, сообщил Ситвел, вставая. - Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание. Об остальном позабочусь я.
Ситвел подошел к двери, но Эдельштейн остановил его.
- Я бы хотел только обсудить один вопрос.
- Какой?
- Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов.
Ситвел расхохотался и лиловым платком вытер слезы.
- Эдельштейн! - проговорил он. - Вы восхитительны! Ни одного врага!.. А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить пятьсот долларов, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?
- Я не подумал о Сеймуре, - признался Эдельштейн.
- А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на ее Марьери? А Том Кэссиди, обладатель полного собрания речей Геббельса? Он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас... Эй, что с вами?
Эдельштейн сидел на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки.
- Мне и в голову не приходило... - пробормотал он.
- Никому не приходит, - успокоил Ситвел. - Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. Шесть или семь врагов - пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня.
- Имена остальных! - потребовал Эдельштейн, тяжело дыша.
- Я не хочу говорить вам. Зачем лишние волнения?
- Но я должен знать, кто мой злейший враг! Это Кэссиди? Может купить ружье?
Ситвел покачал головой.
- Кэссиди - безвредный полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг - человек по имени Эдуард Самуэль Манович.
- Вы уверены? - спросил потрясенный Эдельштейн.
- Абсолютно.
- Но Манович мой лучший друг!
- А также ваш злейший враг, - произнес Ситвел. - Иногда так бывает. До свидания, мистер Эдельштейн, желаю вам удачи со всеми тремя желаниями.
- Подождите! - закричал Эдельштейн. Он хотел задать миллион вопросов, но находился в таком замешательстве, что сумел только спросить: - Как случилось, что ад переполнен?
- Потому что безгрешны лишь небеса.
Ситвел махнул рукой, повернулся и вышел через закрытую дверь.
Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче. Злейший враг!.. Смешно, в аду явно ошиблись. Он знал Мановича почти двадцать лет, каждый день встречался с ним, играл в шахматы. Они вместе гуляли, вместе ходили в кино, по крайней мере раз в неделю вместе обедали.
Правда, конечно, Манович иногда разевал свой большой рот и переходил границы благовоспитанности.
Иногда Манович бывал груб.
Честно говоря, Манович часто вел себя просто оскорбительно.
- Но мы друзья, - обратился к себе Эдельштейн. - Мы друзья, не так ли?
Он знал, что есть простой способ проверить это - пожелать себе миллион долларов. Тогда у Мановича будет два миллиона долларов. Ну и что? Будет ли. его, богатого человека, волновать, что его лучший друг еще богаче?
Да! И еще как! Ему всю жизнь не будет покоя из-за того, что Манович разбогател на его, Эдельштейна, желании.
"Боже мой! - думал Эдельштейн. - Час назад я был бедным, но счастливым человеком. Теперь у меня есть три желания и враг".
Он обхватил голову руками. Надо хорошенько поразмыслить.
На следующей неделе Эдельштейн договорился на работе об отпуске и день и ночь сидел над блокнотом. Сперва он не мог думать ни о чем, кроме замков. Замки гармонировали с желаниями. Но, если приглядеться, это не так просто. Имея замок средней величины с каменными стенами в десять футов толщиной, землями и всем прочим, необходимо заботиться о его содержании. Надо думать об отоплении, плате прислуге и так далее.
Все сводилось к деньгам.
"Я могу содержать приличный замок на две тысячи в неделю, - прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры.
- Но это значит; что Манович будет содержать два замка по четыре тысячи долларов в неделю!"
Наконец, Эдельштейн перерос замки; мысли его стали занимать путешествия. Может, попросить кругосветное? Но что-то не хочется. А может, провести лето в Европе? Хотя бы двухнедельный отдых в Фонтенбло или в Майами-Бич, чтобы успокоить нервы? Но тогда Манович отдохнет вдвое краше!
Уж лучше остаться бедным и лишить Мановича возможных благ.
Лучше, но не совсем.
Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе: "Я идиот, откуда я знаю, что все это правда? Хорошо, Ситвел смог пройти сквозь двери; но разве он волшебник? Может, это химера".
Он сам удивился, когда встал и громко и уверенно произнес:
- Я желаю двадцать тысяч долларов! Немедленно!
Он почувствовал мягкий толчок. А вытащив бумажник, обнаружил в нем чек на 20 000 долларов.
Эдельштейн пошел в банк и протянул чек, дрожа от страха, что сейчас его схватит полиция. Но его просто спросили, желает ли он получить наличными или положить на свой счет.
При выходе из банка он столкнулся с Мановичем, чье лицо выражало одновременно испуг, замешательство и восторг.
Эдельштейн в расстроенных чувствах пришел домой и остаток дня мучался болью в животе.
Идиот! Он попросил лишь жалких двадцать тысяч! А ведь Манович получил сорок!
Человек может умереть от раздражения.
Эдельштейн впадал то в апатию, то в гнев. Боль в животе не утихала - похоже на язву. Все так несправедливо! Он загоняет себя в могилу, беспокоясь о Мановиче!
Но зато он понял, что Манович действительно его враг. Мысль, что он собственными руками обогащает своего врага, буквально убивала его.
Он сказал себе: "Эдельштейн! Так больше нельзя. Надо позаботиться об удовлетворении".
Но как?
И тут это пришло к нему. Эдельштейн остановился. Его глаза безумно забегали, и, схватив блокнот, он погрузился в вычисления. Закончив, он почувствовал себя лучше, кровь прилила к лицу - впервые после визита Ситвела он был счастлив!
- Я желаю шестьсот фунтов рубленой цыплячьей печенки!
Несколько порций рубленой цыплячьей печенки Эдельштейн съел, пару фунтов положил в холодильник, а остальное продал по половинной цене, заработав на этом 700 долларов. Оставшиеся незамеченными 75 фунтов прибрал дворник. Эдельштейн от души смеялся, представляя Мановича, по шею заваленного печенкой.
Радость его была недолгой. Он узнал, что Манович оставил десять фунтов для себя (у этого человека всегда был хороший аппетит), пять фунтов подарил неприметной маленькой вдовушке, на которую хотел произвести впечатление, и продал остальное за 2000 долларов.
"Я слабоумный, дебил, кретин, - думал Эдельштейн. Из-за минутного удовлетворения потратить желание, которое стоит, по крайней мере, миллион долларов! И что я с этого имею? Два фунта рубленой цыплячьей печенки, пару сотен долларов и вечную дружбу с дворником!"
Оставалось одно желание.
Теперь было необходимо воспользоваться им с умом. Надо попросить то, что ему, Эдельштейну, хочется отчаянно - и вовсе не хочется Мановичу.
Прошло четыре недели. Однажды Эдельштейн осознал, что срок подходит к концу. Он истощил свой мозг и для того лишь, чтобы убедиться в самых худших подозрениях: Манович любил все, что любил он сам. Манович любил замки, женщин, деньги, автомобили, отдых, вино, музыку...
Эдельштейн молился:
- Господи, Боже мой, управляющий адом и небесами, у меня было три желания, и я использовал два самым жалким образом. Боже, я не хочу быть неблагодарным, но спрашиваю тебя, если человеку обеспечивают исполнение трех желаний, может ли он сделать что-нибудь хорошее для себя, не пополняя при этом карманов Мановича, злейшего врага, который запросто всего получает вдвое?
Настал последний час. Эдельштейн был спокоен как человек, готовый принять судьбу. Он понял, что ненависть к Мановичу была пустой, недостойной его. С новой и приятной безмятежностью он сказал себе: "Сейчас я попрошу то, что нужно лично мне, Эдельштейну".
Эдельштейн встал и выпрямился.
- Это мое проследнее желание. Я слишком долго был холостяком. Мне нужна женщина, на которой я могу жениться. Она должна быть среднего роста, хорошо сложена, конечно, и с натуральными светлыми волосами. Интеллигентная, практичная, влюбленная в меня, еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора...
Мозг Эдельштейна внезапно заработал на бешеной скорости:
- А особенно, - добавил он, - она должна быть... не знаю, как бы это повежливее выразиться... она должна быть пределом, максимумом, который только я хочу и с которым могу справиться, я говорю исключительно в плане интимных отношений. Вы понимаете, что я имею в виду, Ситвел? Деликатность не позволяет мне объяснить вам более подробно, но если дело требует того...
Раздалось легкое, однако какое-то сексуальное постукивание в дверь. Эдельштейн, смеясь, пошел открывать.
"Двадцать тысяч долларов, два фунта печенки и теперь это! Манович, - подумал он, - ты попался! Удвоенный предел желаний мужчины... Нет, такого я не пожелал бы и злейшему врагу - но я пожелал!"
Сообщение изменено: Lexxx (21 октября 2010 - 06:18)
#66

 Отправлено 27 октября 2010 - 08:19
Отправлено 27 октября 2010 - 08:19


Ее героями были Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн. О Линкольне речи не шло, но прикинуться Эйнштейном я при некотором старании мог. Я отрастил темные усы, на голове у меня появилась нечесаная седая грива. Для гардероба отобрал шерстяные брюки, белую хлопковую рубашку, габардиновый пиджак с узкими лацканами. Только ботинки были мои собственные, самые любимые - из натуральной кожи, австралийская копия модельной обуви середины двадцатого века, удобные, разношенные. В зеркале гримерной отразился симпатичный, рослый, моложавый родственник старины Альберта, помесь Эйнштейна и ее психиатра, доктора Гринсона.
Параллельные вселенные, окружающие вечер субботнего дня 4 августа, были так истоптаны - тут тебе и туристы, и биографы, и любители скандалов, - что появляться там не было никакого смысла. К тому же мне хотелось вкусить дух старого Лос-Анджелеса, каким он был еще до землетрясения. Поэтому я выбрал пятницу, 18 часов, и материализовался в кабинке мужского туалета аэропорта Санта-Мо-ники. Некоторые избирают места безлюдные, а мне подавай аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы. Здесь все чужие, поэтому погрешности в вашей одежде никого не интересуют. Общественный транспорт предназначен для всех, в толпе ничего не стоит затеряться. Блок переноса, замаскированный под чемоданчик, выглядит совершенно невинно. Я купил в киоске пару пачек «Лаки Страйк», нанял в отделении агентства «Герц» синий «плимут» с автоматической коробкой передач, бросил брезентовую сумку с камерой и чемоданчик в багажник и, изучив карту, нашел мотель на бульваре Уилшир.
Здание было выстроено в ложно-испанском стиле: розовая штукатурка, красная черепичная крыша, колоннада вокруг бассейна; паренек со стрижкой новобранца, в белой футболке, заигрывал с сопливыми девчонками вместо того, чтобы чистить бассейн. Я не закрыл дверь своего номера и, вытащив сигарету, наблюдал за лодырем до тех пор, пока на него не набросилась толстая тетка в халате, потребовавшая, чтобы он взялся за дело. Девчонки радостно хихикали.
До наступления вечера я колесил по округе. Полюбовался в Санта-Монике причалом, который потом снесло цунами (она говорила Гринсону, что собирается побывать там в субботу вечером, но потом передумала и осталась дома), поужинал в «Дансерз»: колоссальный бифштекс, печеная картофелина размером с футбольный мяч, бутылка красного калифорнийского вина. Потом медленно проехал «Милю Чудес», опустив стекла и наслаждаясь волнами горячего воздуха. Все мне было любопытно: стриптиз и кинотеатры, бары и уличные проститутки. Многие женщины походили на нее прической и обтягивающими платьями и почти все без стеснения строили мне глазки.
Я поставил машину рядом с клубом «Блу Нот» и зашел внутрь. Над дверью клуба красовался огромный неоновый бокал синего цвета с золотым неоновым джином, в который падала здоровенная зеленая оливка, тоже неоновая. У стойки я заказал виски и послушал трио джазистов. Худой белый саксофонист с козлиной бородкой так истязал свой инструмент, что хотелось поверить: где-то внутри засела и не желает выходить мелодия. Бедные поклонники позднего модерна воображали, что разглядели контуры будущего! Грядущее казалось им суровым, нестройным, преодолевшим постылое мещанство. Им было невдомек, что и в будущем, как и в настоящем, центром мироздания останутся жратва и скучная работа, и что в 2043 году люди по-прежнему сходят с ума по любительским мужским квартетам, поющим без аккомпанемента.
Я тянул виски, и у меня кружилась голова. Приятное ощущение! К алкоголю я присовокупил никотин, выкурив еще две сигареты. Пары за столиками обсуждали интимные подробности жизни, предшествующие постели. А тем временем она не могла уснуть у себя в Брентвуде: ее донимали телефонные звонки. Незнакомые голоса в трубке требовали, чтобы она оставила Бобби Кеннеди в покое.
Темноволосая женщина, причесанная под Жаклин, в черных перчатках и с огромным декольте, села у стойки рядом со мной. Пение закончилось, раздались жидкие аплодисменты.
- Терпеть не могу этот новомодный вой, - заявила она.
- Очень созвучно времени, - откликнулся я. Женщина окинула меня непонимающим взглядом и рискнула засмеяться.
- Время можно проводить по-разному.
- Я еще не то видал, - сообщил я.
- Вы не американец? Чувствуется акцент.
- Я родился в Германии.
- Значит, вам досталось?
Я опрокинул стакан скотча.
- Вроде того. - У нее были густо накрашенные веки и ресницы длиной в добрый сантиметр, бледно-розовая помада на тонких губах. Ее трудно было представить без косметики. - Разрешите вас угостить.
- Спасибо.
Она наблюдала, как я копаюсь в кошельке с неудобными древними банкнотами. Я заказал ей джин-тоник. Она назвалась Кэрол.
- А я Детлев.
- Детлефф? Звучит странно.
- Даже в Германии это редкое имя.
- Что же привело вас в Лос-Анджелес, Детлефф? Вы перелезли через Берлинскую стену?
- Хочу увидеть кинозвезду.
Она фыркнула.
- Здесь такие не водятся.
- Вы, Кэрол, вполне годитесь в кинозвезды.
- Вы не поверите, Детлефф, но я это уже слышала.
- Тогда скажите, чего вы еще не слышали.
Мы трижды заказывали выпивку, заигрывая друг с другом. Она пожаловалась на свое одиночество, я назвался чужаком. Это было типичное знакомство «пенициллиновой эры»: мы узнали друг о друге довольно много (другое дело, что правду мы знать не желали) и были вполне удовлетворены полученными сведениями. Ее представление обо мне дополнили фантазии, зато у меня иллюзий оставалось мало - или, наоборот, много? Ведь я не знал об этих людях почти ничего, не считая ерунды, которую можно почерпнуть из древних книг. Экранный образ привел меня сюда; я вообще - раб образов. С действительностью они связаны слабо, гораздо сильнее - с прихотями.
Я заглядывал Кэрол за корсаж, она терлась о мое плечо. Из этого выросло желание, якобы способное перерасти в более достойное чувство и залечить душевные раны. Мы бы не отпускали друг друга, пока не изнемогли, а потом просто лежали бы, обнявшись и наслаждаясь родством наших чувств, первым мгновением безупречного союза, который подарил бы нам вслед за этим мгновением бесчисленные волшебные ночи… А утром расстались бы, чтобы никогда больше не встретиться.
Так это выглядело в мечтах. Мы поехали к ней и честно постарались претворить мечты в реальность. Потом я лежал с открытыми глазами, вспоминая Габриэллу, какой она была сразу после нашей свадьбы, на залитом солнцем пляже Ниццы. Ею любовался не только я, но и все до одного мужчины, оказывавшиеся поблизости. Хотелось ли ей, чтобы ее разглядывали? Существовала ли для нее разница между моим взглядом и их?
Перед рассветом я оставил сонную Кэрол, вернулся в свой розовый отель и завалился спать.
Субботу я посвятил путешествию по Лос-Анджелесу, еще не перенесшему землетрясение. Я предавался порокам, не возможным в Мюнхене 2043 года: выкурил много сигарет, разгуливал на солнце, купил сборник комиксов, на который ушла уйма настоящей бумаги. Днем я забрел в закусочную и заказал бифштекс с кровью и гарниром из помидора и жареной картошки. Когда официантка ставила передо мной тарелку, у меня потекли слюнки, но уже через минуту аппетит сменила тошнота: я в ужасе переводил взгляд со своих пальцев, испачканных кровью и майонезом, на жир, застывающий на краю тарелки.
Что ж, недаром я был поклонником грязных удовольствий двадцатого века. Тогдашняя жизнь не представлялась благостной. Люди слонялись по улицам, ощущая тень смертоносной бомбы. В подсознании сидел страх, что в любую минуту всех их могут испепелить. Ужас испытывали даже блондинки. Я представлял себе своих предков на другом континенте, знавших, что их страна может мгновенно превратиться в поле ядерного сражения, да еще согнутых бременем коллективной вины. Вот из какого материала кудесник Аденауэр сумел снова скроить нацию, которой на первых порах было не до обжорства, не до скуки, не до разложения!
Богиня этих людей звалась Мэрилин. Она покоряла их своим фантастическим телом, детским голоском и пленительной рассеянностью.
Архитектура Лос-Анджелеса 1962 года меня разочаровала. В городе хватало безвкусицы, торгующих хот-догами киосков, выполненных в форме сосиски, и заведений хиромантов, напоминающих очертаниями летающие тарелки; зато огромные небоскребы, которым не было суждено устоять при землетрясении, еще не появились. Возможно, благодаря моему появлению, многие из них так и не вырастут - в этом прошлом, которое из-за моего возникновения стало «параллельным», одним из многих. Всякое мое действие вызывало эффект падающего домино. Возможно, вся жизнь Кэрол пойдет под откос из-за воспоминаний об одной страстной ночи в моих объятиях. Возможно, выкуренные мной сигареты не достались другим людям, для которых они оказались бы смертельными. Возможно, завихрения воздуха, поднятые моим «плимутом», вызвали дожди в Белграде и засуху в Индии. Не знаю и не хочу знать, хорошо это или плохо…
Я коротал время, дожидаясь вечера. Остался позади двухчасовой психотерапевтический сеанс Гринсона, пытавшегося укрепить ее дух, не дать погрузиться в ночную депрессию.
В девять часов утра я взял сумку с камерой, блок переноса и сел в машину. Проехал по автостраде вдоль океанского побережья, прогулялся по пляжу в Малибу и повернул назад. Среди холмов вилась лента Сансет-бич, из-за деревьев выныривали дома с зажженными окнами. Добравшись до Брентвуда, я с трудом нашел квартал «Кармелина»: сначала дважды проехал мимо. Мэрилин жила на улочке, заканчивавшейся тупиком. Я оставил машину в тупике, повесил сумки на плечо и зашагал к дому.
Здание отделяла от улицы кирпичная оштукатуренная стена. Я проник во двор соседнего дома, продрался сквозь заросли бугенвиллеи и подошел с заднего крыльца. Это оказалась довольно скромная гасиенда: две спальни, маленький дворик, крошечный бассейн - вода была неподвижна, как стекло. Свет горел только в дальней спальне, слева от меня.
Первым делом надо было избавиться от Энис Мюррей, компаньонки и экономки. Если то, что случилось в нашей истории, соответствовало событиям здесь, она в этот вечер рано удалилась спать. Я неслышно вошел в дом с черного хода, нашел Энис в спальне и, зажав ей рот, налепил на руку пластырь со снотворным. Она быстро отключилась, и я двинулся дальше.
По коридору тянулся телефонный шнур, начинаясь в гостиной и ныряя под дверь спальни. Дверь оказалась заперта. Я вышел, миновал кусты, испачкав ботинки в мягкой земле, просунул руку сквозь решетку и раздвинул шторы - благо, что рамы были распахнуты.
Мэрилин лежала ничком поперек кровати, правая рука с зажатой телефонной трубкой свисала на пол. Я обежал дом, нашел одно окошко, не забранное решеткой, разбил стекло и влез. Дыхание Мэрилин было глубоким, но редким и нерегулярным, кожа влажной, на шее едва угадывался пульс.
Я перевернул ее на спину, поднял веко и посветил в глаз фонариком. Зрачок почти не реагировал на свет.
Я сделал ей инъекцию апоморфина, поднял с кровати и понес в ванную. Она оказалась на удивление легонькой - кожа да кости! В ванной комнате, где еще не был убран мусор после ремонта, я долго держал ее над унитазом, пока ее не вырвало. Пищи во рвоте не было, только непереваренные капсулы. Хороший признак, если бы я не знал, что она всегда прокалывала капсулы иголкой, дабы ускорить их действие. Определить, сколько нембутала уже попало в кровь, было невозможно.
Я ткнул ее большим пальцем в локоть. Мне показалось, что она ахнула от боли.
- Просыпайся, - сказал я. - Пора!
Никакой реакции.
Я снова перенес ее на кровать и достал из сумки фильтратор крови, смахнул со столика у изголовья рассыпанные таблетки и поставил на него прибор. Легко загнав ей в артерию на руке шунт, я настраивал аппарат, пока не добился зеленого цвета на датчике,
По прошествии получаса она уже лежала с приподнятыми ногами и мерно дышала. Теперь это был здоровый сон. Ее кровь весело бежала через фильтр, возвращая ей жизнь, а меня наполняя торжеством.
Я вышел на крыльцо и выкурил сигарету. Звезды скрылись за тучами, поднялся ветер. Рядом с порогом красовался камень с высеченным изречением: «Cursum Perfecio», что значит «Я завершаю свой путь». Я заглянул к миссис Мюррей. Она еще не приходила в чувство. Я вернулся в спальню. Там царил кавардак: везде валялись пузырьки с таблетками. На проигрывателе стояли пластинки Синатры, верхняя называлась «Большие надежды». Пол был усеян бумажными папками. Я поднял одну. В ней оказался сценарий «Кто-то должен отдавать».
Я проглядел сценарий и остался о нем невысокого мнения. Часа в два ночи она застонала, зашевелилась. Я налепил ей на руку лечебный пластырь.
Еще через час раздался звуковой сигнал фильтратора. Я убрал шунт, заставил ее сесть и выпить литр воды. Это отняло много времени. Она смотрела на меня затуманенным взглядом. Пахло от нее неважно, облик тоже никак не соответствовал славе самой сексуальной женщины двадцатого века.
- В чем дело? - выдавила она.
- Вы выпили слишком много лекарств. Ничего, скоро вам полегчает. Я помог ей накинуть халат, заставил пройтись по коридору, потом по гостиной, дожидаясь, когда она сможет самостоятельно переставлять ноги. Гостиная была украшена мерзкими масками, в которых мексиканцы отмечают День Мертвецов, и портретом Линкольна в раме.
Насмотревшись до тошноты на корчащихся уродов и славного Эйба, я вывел ее во двор и стал выгуливать в темноте вокруг бассейна. По воде уже бежала крупная рябь.
Примерно на десятом круге она начала приходить в себя. Попытка вырваться не удалась: она была слаба, как младенец.
- Отпустите! - взмолилась она.
- Надоело ходить?
- Я хочу спать.
- Лучше еще побродим.
Мы кружили вокруг бассейна еще с четверть часа. Издали доносился шум проезжающих машин, пальмы шуршали на ветру сухими листьями. Я обливался потом, она была холодна, как труп.
- Пожалуйста! - канючила она. - Хватит!
Я усадил ее в шезлонг, сбегал в дом, поставил вариться кофе. Накинув на нее одеяло, я решил не дать ей уснуть, пока кофе не будет готов.
Потом она сидела, держа чашку с кофе обеими руками, чтобы согреть пальцы, с растрепанными волосами и смеженными ресницами. Вид у нее был невероятно усталый.
- Как самочувствие? - осведомился я.
- Жива… Вот невезуха! - Она расплакалась. - Какие же они все жестокие, Господи…
Я не стал ей мешать, только сунул платок, чтобы первая красавица в мире вытерла глаза и высморкалась.
- Вы кто? - спросила она наконец.
- Детлев Грубер. Зовите меня Дет.
- Что вы здесь делаете? Где миссис Мюррей?
- Не помните? Вы сами отправили ее домой.
Она отхлебнула кофе, настороженно наблюдая за мной.
- Я пришел вам помочь, Мэрилин. Спасти вас.
- Спасти?
- Знаю, вам тяжело, вы очень одиноки. Но это не повод кончать жизнь самоубийством.
- Ерунда! Я просто хотела уснуть.
- Вы это серьезно?
- Послушайте, я не знаю, кто вы, но ваша помощь мне ни к чему. Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию. - Последние слова она выговорила виновато. - Простите…
- Не надо извиняться. Я явился, чтобы избавить вас от всей этой гадости.
Она дрожащей рукой поставила чашку. Никогда еще не видел такого беззащитного лица. Мне очень хотелось ей помочь, хоть я и знал, что передо мной даже не сексуальная игрушка, а безнадежная развалина.
- Я замерзла, - сказала она. - Пойдемте в дом.
Мы вернулись и устроились в гостиной: она на диване, я в неудобном кресле с высокой прямой спинкой. Я стал рассказывать подробности ее жизни, которые не мог знать никто, кроме нее самой: аборты, попытки самоубийства, связь с братьями Кеннеди, грубое обращение Синатры. Я напомнил ее кошмары: боязнь одиночества, страх сойти с ума, ненависть к старости. Роль спасителя нравилась мне все больше. Я бы все отдал, чтобы заключить ее в объятия!
В ее лице уже не было враждебности: ведь она слышала только правду. Артур Миллер писал о том, как благодарна она бывала всякий раз, когда он спасал ей жизнь. Неужели мне доведется испытать ее волшебную признательность? Ей всегда нравилось, чтобы ее спасали.
Возможно, сыграл свою роль пластырь, который я налепил ей на руку. Наконец она возмутилась:
- Откуда вы все это знаете?
- Это самый ответственный момент, Мэрилин. Я знаю все, потому что явился из будущего. Если бы не мое появление, вы не пережили бы эту ночь.
- Значит, из будущего? - Она засмеялась.
- Понимаю вас. Но это параллельное будущее, так что ваше спасение никак не затронет ход истории в моей вселенной.
- Так я и поверила!
- Я вас не обманываю, Мэрилин. Иначе вы были бы уже мертвы. Она плотнее запахнулась в одеяло.
- Неужели в будущем меня помнят?
- Вы знаменитейшая актриса своего времени. Ваша смерть была страшной трагедией. Мы хотим ее предотвратить.
- Мне-то от этого какая польза? Все равно я тону в дерьме.
- Теперь для вас все кончится.
Она изображала скепсис, но вся уже дрожала от надежды.
- Я хочу забрать вас с собой в будущее, - сказал я.
Она вздрогнула:
- Вы что, свихнулись? Я же там никого не знаю. Ни друзей, ни родни…
- Родни у вас нет и здесь. Мать в психиатрической лечебнице. А что до друзей, интересно, куда они все подевались этой роковой ночью?
Она потерла лоб. Этот жест был полон волнения. Его оказалось достаточно, чтобы она стала для меня живым человеком, женщиной, попавшей в беду, а не сломанной сексуальной игрушкой.
- Зачем вам со мной возиться? Я этого не заслуживаю. От меня одни неприятности.
- Я покончу со всеми вашими бедами. В будущем это умеют делать. Здесь вы уже никому не нужны, никто вас толком не понимает, Мэрилин. Одна лишь бездна отчаяния… но мы сумеем вас возродить. Мы залечим раны, которые вы получали с самого детства. Здесь вами пренебрегают - у нас будут превозносить. Вы навечно останетесь молодой. Это тоже в наших силах. Моя работа - исправлять ошибки, допущенные в параллельных вселенных. Вы из числа избранных. У нас, Мэрилин, вас ждут заботливые люди, дом, духовная поддержка, понимание…
- Снова в психушку? Хватит с меня!
Я подошел к ней, присел рядом, заглянул ей в глаза. Настал момент для проникновенных речей. Я понизил голос.
- Знаете это стихотворение Йетса?
- Какое еще стихотворение?
- «Не отдавай все сердце».
Я заучил эти строки наизусть, ведь она любила их больше всего:
Не отдавай все сердце за любовь!
Пусть мысль такая не взволнует кровь
Рабыням страсти, как она ни очевидна:
Зазорно признаваться и обидно,
Что поцелуй для сердца ядовит,
Поскольку все прелестное на вид
Есть краткий миг, бесплотная мечта…
Она перебила меня срывающимся голосом:
- Ну и что?
- А то, что жизнь не похожа не стихи. Нет смысла в страдании. Нет необходимости отдавать сердце и терпеть поражение. Она сидела молча, закутанная в одеяло. Видимо, я задел ее за живое. - Словом, подумайте.
Я вышел на крыльцо и выкурил еще одну сигарету. Присоединяясь к этому проекту, я был полон энтузиазма. Экзотические эпохи, знаменитости… Я неплохо работал: все схватывал на лету, проявлял ловкость. Главным моим «козырем» была искренность. Я так преуспел, что Габриэлла возненавидела меня и бросила.
Спустя некоторое время Мэрилин вышла, накинув одеяло на голову, как индианка.
- Ваше решение, скво?
Она невольно усмехнулась. Даже при слабом свете из двери были заметны морщинки в уголках ее глаз.
- Вы вернете меня обратно, если мне там не понравится?
- Понравится! Но если нет, я вас верну, обещаю.
- Хорошо. Что мне делать?
- Захватите то, что хотели бы оставить на память. А остальное - наша забота.
Я ждал, пока она в спешке собирала чемодан. Поверх вещей лег снятый со стены портрет Линкольна. Я убрал в сумку фильтратор крови и установил в гостиной блок переноса.
- Маф! - воскликнула она.
- То есть?
- Мой пес. - Она опять выглядела совершенно раздавленной. - Кто о нем позаботится?
- Миссис Мюррей.
- Она его не переносит! Нет, я ей не доверяю. - Казалось, рухнула ее последняя надежда. - Я не могу. Это была неудачная идея.
- Где Маф? Мы заберем его с собой.
Мы пошли в комнату для гостей. Там стояла такая вонь, что я чуть не зажал нос. Собака спала на старой шубе. Стоило нам открыть дверь, как она с лаем набросилась на меня. Это был избалованный карликовый пудель, которого так и хочется от души пнуть ногой. Но она схватила его на руки, заворковала, заставила меня взять мешок с кормом и миску для воды. Я подчинился, едва сдерживая раздражение.
В гостиной я отодвинул кресло и поставил Мэрилин в центр комнаты, после чего выложил вокруг нас кольцом электрический шнур, очертив поле. Видя ее волнение, я взял женщину за руку. Она не спускала с рук свою брехливую собачонку.
- Готово, Мэрилин.
Я нажал клавишу на своем блоке. Гостиная Мэрилин стала отступать от нас, и мы провалились в пустоту, как камешки в бездонный колодец.
Нам навстречу неслась из невыносимой дали транзитная станция. Еще немного - и мы снова оказались в помещении. Собака зарычала, Мэрилин покачнулась, положила ладонь себе на лоб. Я взял ее за руку, чтобы успокоить.
Из контрольной рубки появились Сковилл и медсестра, которая взяла Мэрилин за другую руку.
- Это сестра, она поможет вам отдохнуть. А это Дерек Сковилл, руководитель программы.
Мы надели на «звезду» комбинезон, врачи накачали ее инъекциями. Я пообещал ей позаботиться о Мафе и тут же сбагрил пуделя персоналу. Я держал Мэрилин за руку, подбадривал ее улыбкой, сидел с ней рядом, пока она не уснула. Наконец-то она выглядела спокойной. Мэрилин нравилось, когда ей помогают; она привыкла к заботе. Теперь этим будет заниматься целый мир. Так она воображала…
На самом деле ее судьба целиком зависела от меня.
Я заскочил в гримерную, принял душ и переоделся: сингапурская шелковая рубашка, мешковатые брюки, компьютерные очки. Прогноз обещал избыток солнечной радиации, поэтому я напялил широкополую шляпу. И как раз разглядывал свои ботинки, на которые разрушительно подействовала грязь из сада Мэрилин, когда в уголке очков появился вызов от Сковилла: меня приглашали на совещание.
Кроме Сковилла там были Левин, Салли Хоз, врач, Джейсон Краер из отдела рекламы.
- Твое мнение? - спросил меня Левин.
- Она в неважном состоянии. Физически еще туда-сюда, но эмоционально…
- Завтра продолжим курс инъекций, - сказал врач. - Возможно, у нее повреждены почки. Не удивлюсь, если не только они.
- А ее шрамы видели? - спросил Левин. - Сколько она перенесла операций? Кажется, там у них, чуть что, сразу хватаются за мясницкий нож.
- Сначала за мясницкий нож, потом за пульверизатор с краской, - добавила Салли.
- Шрамы мы устраним, - сказал Краер. Ходили легенды, что отдел Краера - самое опасное место во всем Голливуде. - А Детлев будет ее ангелом-хранителем. Так, Дет? Ты ведь спас «звезде» жизнь! Ты ей и друг, и папочка, и любовник, если понадобится.
- Конечно, - сказал я, вспоминая спящую Мэрилин. - На что надеялась она сама?
- Мы умеем учитывать психологические факторы, - сказал Краер. - Это наше ноу-хау.
Мне было трудно досидеть до конца. Сразу после совещания я спустился в вестибюль и покинул здание. Перед главным входом собралась пренебрегающая пеклом толпа. Густо намазав лица блокирующим солнечную радиацию кремом номер 400, они размахивали лозунгами: «Прекратить эксплуатацию времени!», «Информация, а не люди!», «Руки прочь от прошлого!».
Доказательств влияния изменений в моментах-пространствах прошлого не существовало; это разные миры. Конечно, после вторжения в конкретную вселенную вы уже не можете туда вернуться. Но вселенных этих бесконечное множество, так что беспокоиться не о чем.
О чем следовало бы позаботиться фанатикам защиты хронологии - так это о том, чтобы наше время-место не засоряли различные исторические персонажи, не способные приспособиться к новизне, распроститься с былой славой или остаться столь интересными для нас, как на то надеялись их спонсоры. Сколько денег израсходовано зря! Кому нужны новые джазовые композиции Гершвина? Способен ли Шекспир понять двадцать первый век? Чем он будет заниматься: писать сценарии для виртуальных приключений?
Я выскользнул через черный ход и сел на углу в Метро, чтобы проехать Голливуд и прибыть в свой жилой комплекс под куполом.
В киоске я загрузил в компьютер-очки последние новости, потом заглянул в мужской туалет, чтобы почистить испачканные в прошлом ботинки. Ведущая программы «Голливудские слухи» Хедли О'Коннор сообщала о сильном снижении доходов концерна «Элизенбрунен ГМБХ», финансировавшего проект с моим участием. Если Сковилл провалится, новый босс обязательно зарежет проект, и мои контрактные обязательства будут аннулированы… Вся надежда на Мэрилин.
- Что вы натворили со своими туфлями, герр Грубер? - запричитал чистильщик по-немецки.
Я выключил очки и посмотрел на него сверху вниз. В моем жилом комплексе работало много неимущих. Это дешевая рабочая сила и хорошая реклама, однако чистильщика переправил в настоящее я сам. Он навел на мои ботинки окончательный блеск и вскинул кудлатую голову.
- Довольны?
- Отлично! - Я вынул двадцатидолларовую бумажку. Он посмотрел на меня печальными умными глазами. Раньше он был шатеном, но успел поседеть.
- У вас теперь усы, как у меня.
- Такая работа. Мне временно потребовалось сходство с вами, Альберт.
Я отдал ему двадцатку и поднялся к себе.
(Примечание Lexxx'a: Под фотографией, которую я разместил в качестве иллюстрации к рассказу, было подписано, что она сделана предположительно за 12 часов до смерти актрисы).
Сообщение изменено: Lexxx (27 октября 2010 - 08:40)
#67

 Отправлено 31 октября 2010 - 11:51
Отправлено 31 октября 2010 - 11:51

Необходимая вещь
Ричард Грегор сидел за своим столом в пыльной конторе фирмы ААА-ПОПС — Астронавтического антиэнтропийного агентства по оздоровлению природной среды, — тупо уставившись на список, включающий ни много, ни мало 2305 наименований. Он пытался вспомнить, что же еще тут упущено.
Антирадиационная мазь? Осветительная ракета для вакуума? Установка для очистки воды? Нет, все это уже есть.
Он зевнул и взглянул на часы. Арнольд, его компаньон вот-вот должен вернуться. Еще утром он отправился заказать все эти 2305 предметов и проследить за их погрузкой на корабль. Через несколько часов точно по расписанию они стартуют для выполнения нового задания.
Но все ли он предусмотрел? Космический корабль — это остров на полном самообеспечении. Если на Дементии IV у тебя кончатся бобы, ты там не отправишься в лавку. А если, не дай Бог, сгорит обшивка основного двигателя, никто не поспешит заменить ее. На борту должно быть все — и запасная обшивка, и инструмент для замены, и инструкция, как это сделать. Космос слишком велик, чтобы позволить себе роскошь спасательных операций.
Аппаратура для экстракции кислорода… Сигареты… Да прямо универсальный магазин, а не ракета.
Грегор отбросил список, достал колоду потрепанных карт и разложил безнадежный пасьянс собственного изобретения.
Спустя несколько минут в контору небрежной походкой вошел Арнольд.
Грегор с подозрением посмотрел на компаньона. Когда маленький химик, сияя от счастья, начинал лихо подпрыгивать, это обычно означало, что ААА-ПОПС ждут крупные неприятности.
— Ты все достал? — робко поинтересовался Грегор.
— В лучшем виде, — гордо заявил Арнольд.
— Старт назначен на…
— Успокойся, будет полный порядок!
Он уселся на край стола.
— Я сегодня сэкономил кучу денег.
— Бог ты мой, — вздохнул Грегор. — Что ты еще натворил?
— Нет, ты только подумай, — торжественно произнес Арнольд. — Только подумай о тех деньгах, которые попусту тратятся снаряжение самой обычной экспедиции. Мы упаковываем 2305 единиц снаряжения ради одного единственного ничтожного шанса, что нам может понадобиться одна из них. Полезная нагрузка корабля снижена до предела, жизненное пространство стеснено, а эти вещи никогда не понадобятся!
— За исключением одного или двух случаев, когда они спасают нам жизнь.
— Я это учел. Я все тщательно изучил и нашел возможность существенно сократить список. Небольшое везение — и я отыскал ту единственную вещь, которая действительно нужна экспедиции. Необходимую вещь! Поехали на корабль, я ее тебе покажу.
Больше Грегор не смог вытянуть из него ни слова.
Всю долгую дорогу в космопорт Кеннеди Арнольд таинственно улыбался. Их корабль уже стоял на пусковой площадке, готовый к старту.
Арнольд торжествующе распахнул люк.
— Вот! — воскликнул он. — Смотри! Это панацея от всех возможных бед!
Грегор вошел внутрь. Он увидел большую фантастического вида машину с беспорядочно размещенными на корпусе циферблатами, лампочками и индикаторами.
— Что это?
— Не правда ли, красавица? — Арнольд нежно похлопал машину. — Я выудил ее у межпланетного старьевщика Джо практически за бесценок.
Грегору все стало ясно. Когда-то он сам имел дело со старьевщиком Джо, и каждый раз это приводило к печальным последствиям. Немыслимые машины Джо в самом деле работали, но как — это другой вопрос.
— Ни с одной из машин Джо я не отправлюсь в космос, — твердо заявил Грегор. — Может быть, нам удастся продать ее на металлолом?
Он судорожно бросился разыскивать кувалду.
— Погоди, — взмолился Арнольд. — Дай, я покажу ее в работе. Подумай сам. Мы в глубоком космосе. Выходит из строя основной двигатель. Мы обнаруживаем, что на третьей шестеренке открутилась и исчезла гайка. Что мы делаем?
— Мы берем новую гайку из числа 2305 предметов, которые взяли с собой на случай вот таких чрезвычайных обстоятельств, — сказал Грегор.
— В самом деле? Но ведь ты же не включил в список четырехдюймовую дюралевую гайку! — торжествующе вскричал Арнольд. — Я проверял. Что тогда?
— Не знаю. А что ты можешь предложить?
Арнольд подошел к машине, нажал кнопку и громко и отчетливо произнес:
— Дюралевая гайка, диаметр четыре дюйма.
Машина глухо зарокотала. Вспыхнули лампочки. Плавно отодвинулась панель, и глазам компаньонов представилась сверкающая, только что изготовленная гайка.
— Хм, — произнес Грегор без особого энтузиазма. — Итак, она делает гайки. А что еще?
Арнольд снова нажал на кнопку:
— Фунт свежих креветок.
Панель отодвинулась — внутри были креветки.
— Дал маху — следовало заказать очищенные, — заметил Арнольд. — Ну да ладно.
— Что еще она может делать? — спросил Грегор.
— А что бы ты хотел? Тигренка? Карбюратор? Двадцатипятиваттную лампочку? Жевательную резинку?
— Ты хочешь сказать — она может состряпать все что угодно?
— Все что ни пожелаешь! Попробуй сам.
Грегор попробовал и быстро произвел на свет одно за другим пинту питьевой воды, наручные часы и банку майонеза.
— Неплохо, — сказал он. — Но…
— Что «но»?
Грегор задумчиво покачал головой. Действительно — что? Просто по собственному опыту он знал, что эти новинки никогда не бывают столь надежны в работе, как кажется на первый взгляд.
— Транзистор серии е1324.
Машина глухо загудела, отодвинулась панель, и он увидел крохотный транзистор.
— Неплохо, — признался Грегор. — Что ты там делаешь?
— Чищу креветки, — ответил Арнольд.
Насладившись салатом из креветок, приятели вскоре получили разрешение на взлет, и через час их корабль был уже в космосе.
Они направлялись на Деннетт IV, планету средних размеров созвездии Сикофакс. Деннетт был жаркой, влажной, плодородной планетой с одним-единственным серьезным недостатком — чрезмерным обилием дождей. Почти все время на Деннетте шел дождь, а когда его не было, собирались тучи. Компаньонам предстояло ограничить выпадение дождей. Основами регулирования климата они вполне овладели. Это были частые для многих миров трудности. Несколько суток — и все будет в порядке.
Путь не был отмечен никакими событиями. Впереди показался Деннетт. Арнольд выключил автопилот и повел корабль сквозь толщу облаков. Они спускались в километровом слое белесого тумана. Вскоре показались горные вершины, а еще через несколько минут корабль завис над скучной серой равниной.
— Странный цвет для ландшафта, — заметил Грегор.
Арнольд кивнул. Он привычно повел корабль по спирали, выровнял его, аккуратно опустил и, сбалансировав, выключил двигатель.
— Интересно, почему здесь нет растительности? — размышлял в слух Грегор.
Через мгновение они это узнали. Корабль на секунду замер, а затем провалился сквозь мнимую равнину и, пролетев несколько десятков метров, рухнул на поверхность.
«Равниной» оказался туман исключительной плотности, какого нигде, кроме Деннетта, не встретить.
Компаньоны быстро отстегнули ремни, тщательно ощупали себя и, убедившись в отсутствии увечий, приступили к осмотру корабля. Неожиданное падение не принесло ничего хорошего их старенькой посудине. Радио и автопилот оказались напрочь выведенными из строя. Были покорежены десять пластин в обшивке двигателя и, что хуже всего, полетели многие элементы в системе управления.
— Нам еще повезло, — заключил Арнольд.
— Да, — сказал Грегор, вглядываясь в туман. — Однако в следующий раз лучше садиться по приборам.
— Ты знаешь, отчасти я даже рад, что все так произошло. Теперь ты убедишься, как незаменим Конфигуратор. Ну что, приступим к работе?
Они составили список всех поврежденных частей.
Арнольд подошел к Конфигуратору и нажал на кнопку:
— Пластина обшивки двигателя, пять дюймов на пять, толщина полдюйма, сплав 342.
Конфигуратор быстро изготовил требуемое.
— Нам нужно десять штук, — сказал Грегор.
— Знаю, — ответил Арнольд и снова нажал на кнопку: — Повторить.
Машина бездействовала.
— Наверное, надо ввести команду полностью, — сказал Арнольд.
Он ударил кулаком по кнопке и произнес:
— Пластина обшивки двигателя, пять дюймов на пять, толщина полдюйма, сплав 342.
Конфигуратор не шелохнулся.
— Странно, — сказал Арнольд.
— Куда уж, — произнес Грегор, чувствуя, что внутри у него что-то обрывается.
Арнольд попробовал еще раз — безрезультатно. Он задумался, затем, снова ударив кулаком по кнопке, сказал:
— Пластиковая чашка.
Машина произвела чашку из ярко-голубого пластика.
— Еще одну, — сказал Арнольд.
Конфигуратор не откликнулся, и Арнольд попросил восковую свечу. Машина ее изготовила.
— Еще одну восковую свечу, — приказал Арнольд.
Машина не повиновалась.
— Интересно, — произнес Арнольд. — Мне следовало бы раньше подумать о такой возможности.
— Какой возможности?
— Очевидно, Конфигуратор может произвести все что угодно, но только в единственном числе.
Арнольд провел еще один эксперимент, заставив машину изготовить карандаш. Она это сделала, но только один раз.
— Прекрасно, — подытожил Грегор, — но нам нужны еще девять пластин. И для системы управления необходимы четыре идентичные детали. Что будем делать?
— Что-нибудь придумаем, — беззаботно ответил Арнольд.
За бортом корабля начинался дождь.
— Я могу найти поведению машины только одно объяснение — говорил Арнольд несколько часов спустя. — Полагаю, здесь действует принцип наслаждения.
— Что? — встрепенулся Грегор. Он дремал, убаюканный мягким шелестом дождя.
— Эта машина обладает своего рода разумом, — продолжал Арнольд. — Получив стимулирующее воздействие, она переводит его на язык исполнительных команд и производит предмет в соответствии с заложенной в памяти программой.
— Производит, — согласился Грегор, — но только единожды!
— Да, но почему? Здесь ключ ко всей нашей проблеме. Я полагаю, мы столкнулись с фактором самоограничения, вызванного стремлением к наслаждению.
— Не понимаю.
— Послушай. Создатели машины не стали бы ограничивать возможности таким образом. Единственное объяснение, которое я нахожу, заключается в том, что при подобной сложности машина приобретает почти человеческие черты. Машина получает определенное наслаждение от производства только новых предметов. Сотворив изделие, машина теряет к нему всякий интерес. С этой точки зрения всякое повторение — пустая трата времени.
— Более дурацких рассуждений я в жизни не слыхал, — сказал Грегор. — Но допустим, ты прав. Что же мы все таки можно сделать?
— Не знаю, — ответил Арнольд.
— Я так и думал.
В этот вечер Конфигуратор произвел им на ужин вполне приличный ростбиф. На десерт был яблочный пирог. Ужин заметно улучшил моральное состояние приятелей.
— Ну что ж, — задумчиво произнес Грегор, затягиваясь сигаретой марки «Конфигуратор». — Вот что мы должны попробовать. Сплав 342 — не единственный материал, из которого можно изготовить обшивку. Есть и другие сплавы, которые продержатся до нашего возвращения на Землю.
Вряд ли можно было хитростью заставить Конфигуратор изготовить пластину из какого-либо ферросплава. Компаньоны приказали машине изготовить бронзовую пластину и получили ее. Однако после этого Конфигуратор отказал им как в медной, так и в оловянной пластинах. На алюминиевую пластину машина согласилась, так же как на пластины из кадмия, платины, золота и серебра. Пластина из вольфрама была уникальным изделием, удивительно, как Конфигуратор вообще смог ее отлить. Плутоний был отвергнут Грегором, и подходящие материалы стали постепенно истощаться. Арнольду пришла идея использовать сверхпрочную керамику. Наконец, последнюю пластину сделали из чистого цинка.
В общем, ночью приятели неплохо поработали и уже под утро смогли выпить за успех предприятия превосходный, хотя и несколько маслянистый херес марки «Конфигуратор».
На следующий день они смонтировали пластины. Кормовая часть корабля имела вид лоскутного одеяла.
— По-моему, очень даже неплохо! — восхитился Арнольд.
— Только бы они продержались до Земли, — судя по голосу Грегор отнюдь не разделял энтузиазма своего компаньона. — Ну ладно, пора приниматься за систему управления.
Здесь возникла новая проблема. Были разбиты четыре абсолютно одинаковые детали — хрупкие, тончайшей работы платы из стекла и проволоки. Заменители исключались.
К полудню приятели чувствовали себя просто омерзительно.
— Есть какие-нибудь идеи? — спросил Грегор.
— Пока нет. Может, пообедаем?
Они решили, что салат из омаров будет очень кстати, и заказали его Конфигуратору. Тот недолго погудел и… ничего.
— Ну а сейчас в чем дело? — спросил Грегор.
— Вот этого-то я как раз и боялся, — ответил Арнольд.
— Боялся чего? Мы ведь еще не заказывали омаров.
— Но мы заказывали креветки. И те и другие относятся к ракообразным. Боюсь, что Конфигуратор разбирается в классах объектов.
— Ну что же, придется консервы, — со вздохом сказал Грегор.
Арнольд вяло улыбнулся.
— Видишь ли, — сказал он, — когда я купил Конфигуратор, то подумал, что нам больше не придется беспокоиться о еде. Дело в том, что…
— Как, консервов нет?!
— Нет.
Они вернулись к машине и заказали семгу, форель, тунца… Безрезультатно. С тем же успехом они попробовали получить свиную отбивную, баранью ножку и телятину.
— По-моему, Конфигуратор решил, что вчерашний ростбиф поставил точку на мясе всех млекопитающих, — сказал Арнольд.
— Это интересно. Если дело так пойдет дальше, мы сможем разработать новую теорию видов…
— Умирая голодной смертью, — добавил Грегор.
Он потребовал жареного цыпленка, и на этот раз Конфигуратор сработал без колебаний.
— Эврика! — воскликнул Арнольд.
— Черт! — выругался Грегор. — Надо было заказать индейку.
На планете Деннетт продолжался дождь. Вокруг залатанной хвостовой части корабля клубился туман.
Арнольд занялся какими-то манипуляциями с логарифмической линейкой, а Грегор, покончив с хересом, безуспешно пытался получить ящик виски. Убедившись в бесплодности своих попыток, он принялся раскладывать пасьянс. После скудного ужина, состоявшего из остатков цыпленка, Арнольд наконец завершил расчеты.
— Это может подействовать, — сказал он.
— Что именно?
— Принцип наслаждения!
Арнольд поднялся и принялся расхаживать взад и вперед.
— Раз эта машина обрела почти человеческие черты, у нее должны быть и способности к самообучению. Я думаю, мы сможем научить ее испытывать наслаждение от многократного производства одной и той же вещи, а именно — элементов системы управления.
— Может, стоит и попробовать, — с надеждой отозвался Грегор.
Поздно вечером приятели начали переговоры с машиной. Арнольд настойчиво нашептывал ей о прелестях повторения. Грегор громко рассуждал об эстетическом наслаждении от многократного производства таких шедевров, как элементы системы управления. Арнольд все шептал о трепете от бесконечного производства одних и тех же предметов. Снова и снова — все те же детали, все из того же материала, производимые с одной и той же скоростью. Экстаз! Грегор философствовал, сколь гармонично это соответствует облику и способностям машины. Он говорил, что повторение гораздо ближе к энтропии, которая с механической точки зрения само совершенство.
По непрерывному щелканью и миганию можно было судить, что Конфигуратор внимательно слушал. Когда на Деннетте забрезжил промозглый рассвет, Арнольд осторожно нажал на кнопку и дал команду изготовить нужную деталь.
Конфигуратор явно колебался. Лампочки неопределенно мигали, стрелки индикаторов нерешительно дергались.
Наконец послышался щелчок, панель отодвинулась, и показался второй элемент системы управления.
— Ура! — закричал Грегор, хлопнув Арнольда по плечу.
Он поспешно нажал на кнопку и заказал еще одну деталь. Конфигуратор громко и выразительно загудел и… ничего не произвел.
Грегор сделал еще одну попытку, однако и на этот раз машина — уже без долгих колебаний — отказалась выполнить просьбу людей.
— Ну а сейчас в чем дело? — спросил Грегор.
— Все ясно, — грустно ответил Арнольд. — Он решил попробовать повторение только ради того, чтобы определить, не лишает ли себя чего-нибудь, не испытав его. Я думаю, что Конфигуратору повторение не понравилось.
— Машина, которая не любит повторения! — тяжело вздохнул Грегор. — Это так по-человечески…
— Как раз наоборот, — с тоской произнес Арнольд. — Это слишком по-человечески…
Время приближалось к ужину, и приятели решили выудить из Конфигуратора что-нибудь съестное. Получить овощной салат было довольно несложно, однако он оказался не слишком калорийным. Конфигуратор добавил буханку хлеба, но о пироге не могло быть и речи. Молочные продукты также исключались: накануне компаньоны заказывали сыр. Наконец, только через час, после многочисленных попыток и отказов, их усилия были вознаграждены фунтом бифштекса из китового мяса, — видно, Конфигуратор был не совсем уверен в его происхождении.
Сразу после ужина Грегор снова стал вполголоса напевать машине о радостях повторения. Конфигуратор мерно гудел, периодически мигал лампочками, показывая, что все же слушает.
Арнольд обложился справочниками и стал разрабатывать новый план. Спустя несколько часов он вдруг вскочил с радостным криком:
— Я знал, что его найду!
— Что найдешь? — живо поинтересовался Грегор.
— Заменитель системы управления!
Он сунул книгу буквально под нос Грегору.
— Смотри! Ученый на Ведньере II создал это пятьдесят лет назад. Система по современным понятиям неуклюжа, но она неплохо действует и вполне подойдет для нашего корабля.
— Ага. А из чего она сделана? — спросил Грегор.
— В том-то вся и штука! Мы не можем ошибиться. Она сделана из особого пластика!
Арнольд быстро нажал на кнопку и прочитал описание системы управления.
Ничего не произошло.
— Ты должен изготовить систему управления типа Ведньер II — закричал Арнольд. — Если ты этого не сделаешь, то нарушишь собственные принципы!
Он ударил по кнопке и еще раз отчетливо прочитал описание системы.
И на этот раз Конфигуратор не повиновался.
Тут Грегора осенило ужасное подозрение. Он быстро подошел к задней панели Конфигуратора и нашел там то, чего опасался.
Это было клеймо изготовителя. На нем было написано: КОНФИГУРАТОР, КЛАСС 3. ИЗГОТОВЛЕН ВЕДНЬЕРСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ. ВЕДНЬЕР II.
— Конечно, они уже использовали его для этих целей, — грустно констатировал Арнольд.
Грегор промолчал. Сказать было нечего.
Внутри на стенках корабля появились капли. На стальной пластине в хвостовом отсеке обнаружилась ржавчина.
Машина продолжала слушать увещевания о пользе повторения, но ничего не производила.
Снова возникла проблема обеда. Фрукты исключались из-за яблочного пирога. Не стоило и мечтать о мясе, рыбе, молочных продуктах, каше. В конце концов, компаньонам удалось отведать лягушек, печеных кузнечиков, приготовленных по древнему китайскому рецепту, и филе из игуаны. Однако после того, как с ящерицами, насекомыми и земноводными было покончено, приятели поняли, что пищи больше не будет.
И Арнольд, и Грегор чувствовали нечеловеческую усталость. Длинное лицо Грегора совсем вытянулось.
За бортом непрерывно лил дождь. Корабль все больше засасывало в хлипкую почву.
Но тут Грегора осенила еще одна идея. Он старался тщательно ее обдумать. Новая неудача могла повергнуть в непреодолимое уныние. Вероятность успеха была ничтожной, но упускать ее было нельзя.
Грегор медленно приблизился к Кофигуратору. Арнольд испугался неистового блеска в его глазах.
— Что ты собираешься делать?
— Я собираюсь дать этой штуке еще одну, последнюю команду, — хрипло ответил Грегор.
Дрожащей рукой он нажал на кнопку и что-то прошептал.
В первый момент ничего не произошло. Внезапно Арнольд закричал:
— Назад!
Машина затряслась и задрожала, лампочки мигали, стрелки индикаторов судорожно дергались.
— Что ты ей приказал? — спросил Арнольд.
— Я приказал ей воспроизвести себя!
Конфигуратор затрясся в конвульсиях и выпустил облако черного дыма. Приятели закашлялись, судорожно глотая воздух.
Когда дым рассеялся, они увидели, что Конфигуратор стоит на месте, только краска на нем в нескольких местах потрескалась, а некоторые индикаторы бездействуют. Рядом с ним, сверкая каплями свежего масла, стоял еще один Конфигуратор.
— Ура! — закричал Арнольд. — Это спасение!
— Я сделал гораздо больше, — устало ответил Грегор. — Я обеспечил нам состояние.
Он повернулся к новому Конфигуратору, нажал на кнопку и прокричал:
— Воспроизведись!
Через неделю, завершив работу на Деннетте IV, Арнольд, Грегор и три Конфигуратора уже подлетали к космопорту Кеннеди. Как только они приземлились, Арнольд выскочил из корабля, быстро поймал такси и отправился сначала на Кэнэстрит, а затем в центр Нью-Йорка. Дела заняли немного времени, и уже через несколько часов он вернулся на корабль.
— Все в порядке, — сказал он Грегору. — Я поговорил с несколькими ювелирами. Без существенного влияния на рынок мы можем продать около двадцати больших камней. После этого думаю, надо, чтобы Конфигураторы занялись платиной, а затем… В чем дело?
Грегор мрачно смотрел на него.
— Ты ничего не замечаешь?
— А что? — Арнольд огляделся.
Там, где раньше стояли три Конфигуратора, сейчас их было уже четыре.
— Ты приказал им воспроизвести еще одного? — спросил Арнольд. — Ничего страшного. Теперь надо только приказать, чтобы они сделали по бриллианту.
— Ты все еще ничего не понял? — грустно воскликнул Грегор. — Смотри!
Он нажал на кнопку ближайшего Конфигуратора и сказал:
— Бриллиант.
Конфигуратор затрясся.
— Это все ты и твой проклятый принцип наслаждения, — устало проговорил Грегор.
Машина вновь завибрировала и произвела на свет… еще один КОНФИГУРАТОР!!!
#68

 Отправлено 02 ноября 2010 - 02:57
Отправлено 02 ноября 2010 - 02:57

Извините, что врываюсь в ваш сон…
Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал:
– Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы – больше никто.
Мне приснилось, что я ответил:
– Не нужно извиняться, сон все равно был так себе, и если я могу вам чем-то помочь…
– Вы, и только вы, – произнес голос. – В противном случае я и мой народ обречены на гибель.
– О Господи, – вымолвил я.
Звали его Фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали слабость к крепким напиткам, а иногда – правда, крайне редко, – кто-то умирал насильственной смертью, они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые…
– Послушайте, – перебил я его, – может быть, перейдем прямо к делу, вашему неотложному делу?
Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя – такова существующая норма.
– Ладно, – успокоил я его. – Давайте перейдем к делу.
Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около ста лет назад (по их представлениям о времени) с небес спустилась невиданных размеров желто-красная колонна. Приземлилась она в третьем по величине городе, неподалеку от памятника Неизвестному Богу у городской ратуши.
Колонна представляла собой цилиндр не правильной формы и имела две мили в диаметре. Вопреки всем законам природы она вдруг поднялась вверх и стала недосягаемой для приборов, потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий, протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец, – все безрезультатно. Полная ужасающего величия, она простояла не двигаясь ровно пять месяцев, двенадцать часов и шесть минут.
Потом без всякой видимой причины колонна начала двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78,881 мили в час (по их представлениям о скорости). Она вспахала поверхность на участке 183,223 мили длиной и 20,011 мили шириной, после чего неожиданно исчезла.
Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и скорее всего в будущем не повторится.
Однако ровно через месяц оно повторилось, на сей раз цилиндр опустился около столицы. Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820,331 мили от места приземления. Причиненный ущерб был огромен, он не поддавался никакому учету. Было унесено несколько тысяч жизней.
Спустя два месяца и один день колонна появилась снова, и на этот раз пострадали все три главных города.
Теперь всем стало ясно, что непонятое и, может быть, не поддающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом, ставит на грань гибели весь народ.
Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась волной всеобщей апатии.
Четвертый удар был нанесен к востоку от столицы в пустынной местности. Ущерб оказался минимальным, но в народе поднялась паника, настоящая паника, в результате чего многие покончили жизнь самоубийством. Положение усугубилось до крайности. На помощь, наряду с истинными науками, были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предложения, кто бы их ни выдвигал – будь то биохимик, гадалка или звездочет. Хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город Рас вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению.
– Извините, – прервал его я. – Все это, безусловно, очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня.
– Я как раз собирался к этому перейти, – ответил голос.
– Тогда продолжайте, – разрешил я. – Только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь.
– Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно, – продолжал Фрока. – По профессии я бухгалтер. Однако у меня есть ряд хобби – на досуге я шутки ради разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом, мы называем его «кола». Он обладает способностью вызывать глубокое просветление…
– У нас такие химикалии тоже имеются, – вставил я.
– Значит, вы меня понимаете! Так вот, во время путешествия – вам этот термин должен быть знаком, – находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял… на меня снизошло откровение… Но это так трудно объяснить.
– Ничего, ничего, смелее, – поторопил я, – давайте самую суть.
– В общем, – произнес голос, – я понял, что мой мир существует на многих уровнях – на атомном, податомном, в вибрационных плоскостях, он имеет бессчетное множество уровней действительности, и все они являются составной частью других уровней существования.
– Мне это известно, – начиная нервничать, сказал я. – Недавно я выяснил, что все сказанное вами относится и к моему миру.
– Итак, – развивал свою мысль Фрока, – мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием.
– А если конкретнее? – попросил я.
– В соответствии с моей гипотезой вмешательство происходит на молекулярном уровне.
– Поразительно! – воскликнул я. – И что же, вы смогли выявить природу этого вмешательства?
– Мне кажется, что да, – ответил голос. – Но у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно.
– Я и сам верю в интуицию, – подбодрил я его. – Так что выкладывайте ваши соображения.
– Сейчас, – неуверенно произнес голос. – Одним словом, я пришел к выводу (чисто интуитивно), что мой мир – это микроскопический паразит на вашем теле.
– Выражайтесь, пожалуйста, яснее!
– Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет – по нашему летосчислению. Разумеется, для вас это всего несколько минут, У меня нет никаких доказательств, и я, конечно, ни в чем вас не обвиняю…
– Ничего, ничего, – успокоил его я. – Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки? Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?
– Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка… Я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира.
– Почесать руку?
– Полагаю; что так.
– И вы считаете, что несущая разрушения и смерть огромная красноватая колонна – это один из моих пальцев?
– Именно.
– И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться.
– Только около этого места, – торопливо произнес голос. – Мне ужасно неловко, что приходится обращаться к вам с такой просьбой, я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить…
– Не надо извиняться, – остановил я его. – Мыслящие существа ничего не должны стесняться.
– Спасибо вам на добром слове, – поблагодарил голос, – Ведь все-таки мы, нечеловекообразные паразиты, чего-то требовать от вас не вправе.
– Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу, – сказал я. – Вот вам слово чести, – никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки.
– Указательного и среднего пальцев, – поправил он.
– Я вообще не буду чесать между костянками пальцев левой руки! Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слово не нарушу.
– Сэр, – взволнованно произнес голос, – вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности. И все же скажу, что я безмерно вам благодарен.
– Ну что вы, что вы, не стоит, – сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю и, несмотря на позывы, не чешу левую руку и даже не мою ее.
В конце следующей недели я бинт сниму. Я прикинул, что по их летосчислению это обеспечит им полный покой на двадцать-тридцать миллиардов лет, что вполне достаточно для любой цивилизации.
Но сейчас меня беспокоит другое. Дело в том, что недавно у меня возникло какое-то интуитивное чувство опасности. Причина – землетрясение в районе Сан Андреас Фолт, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем, когда я эти события сопоставляю, меня охватывает настоящий страх.
Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. И помочь мне можете только вы – больше никто…
#69

 Отправлено 03 ноября 2010 - 06:09
Отправлено 03 ноября 2010 - 06:09

Роберт Шекли
Кое-что задаром
Он как будто услышал чей-то голос. Но, может быть, ему просто почудилось? Стараясь припомнить, как все это произошло, Джо Коллинз знал только, что он лежал на постели, слишком усталый, чтобы снять с одеяла ноги в насквозь промокших башмаках, и не отрываясь смотрел на расползшуюся по грязному желтому потолку паутину трещин - следил, как сквозь трещины медленно, тоскливо, капля за каплей просачивается вода.
Вот тогда, по-видимому, это и произошло. Коллинзу показалось, будто что-то металлическое поблескивает возле его кровати. Он приподнялся и сел. На полу стояла какая-то машина-там, где раньше никакой машины не было.
И когда Коллинз уставился на нее в изумлении, где-то далеко-далеко незнакомый голос произнес: "Ну вот! Это уже все!"
А может быть, это ему и послышалось. Но машина, несомненно, стояла перед ним на полу.
Коллинз опустился на колени, чтобы ее обследовать. Машина была похожа на куб - фута три в длину, в ширину и в высоту - и издавала негромкое жужжание. Серая зернистая поверхность ее была совершенно одинакова со всех сторон, только в одном углу помещалась большая красная кнопка, а в центре - бронзовая дощечка. На дощечке было выгравировано: "Утилизатор класса А, серия АА-1256432". А ниже стояло: "Этой машиной можно пользоваться только по классу А".
Вот и все.
Никаких циферблатов, рычагов, выключателей - словом, никаких приспособлений, которые, по мнению Коллинза, должна иметь каждая машина. Просто бронзовая дощечка, красная кнопка и жужжание.
- Откуда ты взялась? - спросил Коллинз.
Утилизатор класса А продолжал жужжать. Коллинз, собственно говоря, и не ждал ответа. Сидя на краю постели, он задумчиво рассматривал Утилизатор. Теперь вопрос сводился к следующему: что с ним делать?
Коллинз осторожно коснулся красной кнопки, прекрасно отдавая себе отчет в том, что у него нет никакого опыта обращения с машинами, которые "падают с неба". Что будет, если нажать эту кнопку? Провалится пол? Или маленькие зеленые человечки дрыгнут в комнату через потолок?
Но чем он рискует? Он легонько нажал на кнопку.
Ничего не произошло.
- Ну что ж, сделай что-нибудь, - сказал Коллинз, чувствуя себя несколько подавленным.
Утилизатор продолжал все так же тихонько жужжать.
Ладно, во всяком случае, машину всегда можно заложить. Честный Чарли даст ему не меньше доллара за один металл. Коллинз попробовал приподнять Утилизатор. Он не приподнимался. Коллинз попробовал снова, поднатужился что было мочи, и ему удалось на дюйм-полтора приподнять над полом один угол машины. Он выпустил машину и, тяжело дыша, присел на кровать.
- Тебе бы следовало призвать мне на помощь парочку дюжих ребят, - сказал Коллинз Утилизатору. Жужжание тотчас стало значительно громче, и машина даже начала вибрировать.
Коллинз ждал, но по-прежнему ничего не происходило. Словно по какому-то наитию, он протянул руку и ткнул пальцем в красную кнопку.
Двое здоровенных мужчин в грубых рабочих комбинезонах тотчас возникли перед ним. Они окинули Утилизатор оценивающим взглядом. Один из них сказал:
- Слава тебе господи, это не самая большая модель. За те, огромные, никак не ухватишься.
Второй ответил:
- Все же это будет полегче, чем ковырять мрамор в каменоломне, как ты считаешь?
Они уставились на Коллинза, который уставился на них. Наконец первый сказал:
- Ладно, приятель, мы не можем прохлаждаться тут целый день. Куда тащить Утилизатор?
- Кто вы такие? - прохрипел наконец Коллинз.
- Такелажники. Разве мы похожи на сестер Ванзагги?
- Но откуда вы взялись? - спросил Коллинз.
- Мы от такелажной фирмы "Поуха минайл", - сказал один. - Пришли, потому что ты требовал такелажников. Ну, куда тебе ее?
- Уходите, -- сказал Коллинз. - Я вас потом позову.
Такелажники пожали плечами и исчезли. Коллинз минуты две смотрел туда, где они только что стояли. Затем перевел взгляд на Утилизатор класса А, который теперь снова мирно жужжал.
Утилизатор? Он мог бы придумать для машины название и получше. Исполнительница Желаний, например.
Нельзя сказать, чтобы Коллинз был уж очень потрясен. Когда происходит что-нибудь сверхъестественное, только тупые, умственно ограниченные люди не в состоянии этого принять. Коллинз, несомненно, был не из их числа. Он был блестяще подготовлен к восприятию чуда.
Почти всю жизнь он мечтал, надеялся, молил судьбу, чтобы с ним случилось что- нибудь необычайное. В школьные годы он мечтал, как проснется однажды утром и обнаружит, что скучная необходимость учить уроки отпала, так как все выучилось само собой. В армии он мечтал, что появятся какие-нибудь феи или джинны, подменят его наряд, и, вместо того чтобы маршировать в строю, он окажется дежурным по казарме.
Демобилизовавшись, Коллинз долго отлынивал от работа, так как не чувствовал себя психологически подготовленным к ней. Он плыл по воле волн и снова мечтал, что какой-нибудь сказочно богатый человек возымеет желание изменить свою последнюю волю и оставит все ему. По правде говоря, он, конечно, не ожидал, что какое- нибудь такое чудо может и в самом деле произойди. Но когда оно все-таки произошло, он уже был к нему подготовлен.
- Я бы хотел иметь тысячу долларов мелкими бумажками с незарегистрированными номерами, - боязливо произнес Коллинз. Когда жужжание усилилось, он нажал кнопку. Большая куча грязных пяти- и десятидолларовых бумажек выросла перед ним. Это не были новенькие, шуршащие банкноты, но это, бесспорно, были деньги.
Коллинз подбросил вверх целую пригоршню бумажек и смотрел, как они, красиво кружась, медленно опускаются на пол. Потом снова улегся на постель и принялся строить планы.
Прежде всего надо вывезти машину из Нью-Йорка - куда-нибудь на север штата, в тихое местечко, где любопытные соседи не будут совать к нему свой нос. При таких обстоятельствах, как у него, подоходный налог может стать довольно деликатной проблемой. А впоследствии, когда все наладится, можно будет перебраться в центральные штаты или...
В комнате послышался какой-то подозрительный шум.
Коллинз вскочил на ноги. В стене образовалось отверстие, и кто-то с шумом ломился в эту дыру.
- Эй! Я у тебя ничего не просил! - крикнул Коллинз машине.
Отверстие в стене расширялось. Показался грузный краснолицый, мужчина, который сердито старался пропихнуться в комнату и уже наполовину вылез из стены.
Коллинз внезапно сообразил, что все машины, как правило, кому-нибудь принадлежат. Любому владельцу Исполнитель Исполнительницы Желаний не понравится, если машина пропадет. И он пойдет на все, чтобы вернуть ее себе, Он может не остановиться даже перед...
- Защити меня! - крикнул Коллинз Утилизатору и вонзил палец в красную кнопку.
Зевая, явно спросонок" появился маленький лысый человечек в яркой пижаме.
- Временная служба охраны стен "Саниса Лиик", - сказал он, протирая глаза. - Я - Лиик. Чем могу быть вам полезен?
- Уберите его отсюда! - взвизгнул Коллинз.
Краснолицый, дико размахивая руками, уже почти совсем вылез из стены.
Лиик вынул из кармана пижамы кусочек блестящего металла. Краснолицый закричал:
- Постой! Ты не понимаешь! Этот малый..
Лиик направил на него свой кусочек металла. Краснолицый взвизгнул и исчез. Почти тотчас отверстие в стене тоже пропало.
- Вы убили его? - спросил Коллинз.
- Разумеется, нет, - ответил Лиик, пряча в карман кусочек металла. - Я просто повернул его вокруг оси. Тут он больше не полезет.
- Вы хотите сказать, что он будет искать другие пути? - спросил Коллинз.
- Не исключено, - сказал Лиик. - Он может испробовать микротрансформацию или даже одушевление. - Лиик пристально, испытующе поглядел на Коллинза. - А это ваш Утилизатор?
- Ну, конечно, - сказал Коллинз, покрываясь испариной.
- А вы по классу А?
- А то как же? сказал Коллинз. - Иначе на что бы мне эта машина?
- Не обижайтесь, - сонно произнес Лиик. - Это я по-дружески. - Он медленно покачал головой. - И куда только вашего брата по классу А не заносит? Зачем вы сюда вернулась? Верно, пишете какой-нибудь исторический роман?
Коллинз только загадочно улыбнулся в ответ.
- Ну, мне надо спешить дальше, - сказал Лиик, зевая во весь рот. - День и ночь на ногах. В каменоломне было куда лучше.
И он исчез, не закончив нового зевка.
Дождь все еще шел, а с потолка капало. Из вентиляционной шахты доносилось чье-то мирное похрапывание. Коллинз снова был один на один со своей машиной.
И с тысячью долларов в мелках бумажках, разлетевшихся по всему полу. Он нежно похлопал Утилизатор. Эти самые - по классу А - неплохо его сработали. Захотелось чего-нибудь - достаточно произвести вслух и нажать кнопку. Понятно, что настоящий владелец тоскует по ней.
Лиик сказал, что, быть может, краснолицый будет пытаться завладеть ею другим путем. А каким?
Да не все ли равно? Тихонько насвистывая, Коллинз стал собирать деньги. Пока у него эта машина, он себя в обиду не даст.
В последующие несколько дней в образе жизни Коллинза произошла резкая перемена. С помощью такелажников фирмы "Поуха минайл" он переправил Утилизатор на север. Там он купил небольшую гору в пустынной части Аднрондакского горного массива и, получив купчую на руки, углубился в свои владения на несколько миль от шоссе. Двое такелажников, обливаясь потом, тащили Утилизатор и однообразно бранились, когда приходилось продираться сквозь заросли.
- Поставьте его здесь и убирайтесь, - сказал Коллинз. За последние дни его уверенность в себе чрезвычайно возросла.
Такелажники устало вздохнули и испарилась. Коллинз огляделся по сторонам. Кругом, насколько хватал глаз, стояли густые сосновые в березовые леса. Воздух был влажен и душист. В верхушках деревьев весело щебетали птицы. Порой среди ветвей мелькала белка.
Природа! Коллинз всегда любил природу. Вот отличное место для постройки просторного внушительного дома с плавательным бассейном, теннисным кортом и, быть может, маленьким аэродромом.
- Я хочу дом, - твердо проговорил Коллинз и нажал красную кнопку.
Появился человек в аккуратном деловом сером костюме и в пенсне.
- Конечно, сэр, - сказал он, косясь прищуренным глазом на деревья, - но вам все- таки следует несколько подробнее развить свою мысль. Хотите ли вы что-нибудь в классическом стиле вроде бунгало, ранчо, усадебного дома, загородного особняка, замка, дворца? Или что-нибудь примитивное, на манер шалаша или иглу? По классу А вы можете построить себе и что-нибудь ультрасовременное, например дом с полуфасадом, или здание в духе Обтекаемой Протяженности, или дворец в стиле Миниатюрной Пещеры.
- Как вы оказали? - переспросил Коллинз. - Я не знаю. А что бы вы посоветовали?
- Небольшой загородный особняк, - не задумываясь ответил агент. - Они, как правило, всегда начинают с этого.
- Неужели?
- О, да. А потом перебираются в более теплый климат и строят себе дворцы.
Коллинз хотел спросить еще что-то, но передумал. Все шло как по маслу. Эти люди считали, что он - класс А и настоящий владелец Утилизатора. Не было никакого смысла разочаровывать их.
- Позаботьтесь, чтоб все было в порядке, - сказал он.
- Конечно, сэр, - сказал тот. - Это моя обязанность.
Остаток дня Коллинз провел, возлежа на кушетке и потягивая ледяной напиток, в то время как строительная контора "Максиме олф" материализовала необходимые строительные материалы и возводила дом.
Получилось длинное приземистое сооружение из двадцати комнат, показавшееся Коллинзу в его изменившихся обстоятельствах крайне скромным. Дом был построен из наилучших материалов по проекту знаменитого Мига из Дегмы; интерьер был выполнен Тоуиджем; при доме имелись муловский плавательный бассейн и английский парк, разбитый по эскизу Виериена.
К вечеру все было закончено, и небольшая строительная бригада сложила свои инструменты и испарилась.
Коллинз повелел своему повару приготовить легкий ужин. Потом он уселся с сигарой в просторной прохладной гостиной и стал перебирать в уме недавние события. Напротив него на полу, мелодично жужжа, стоял Утилизатор.
Прежде всего Коллинз решительно отверг всякие сверхъестественные объяснения случившегося. Разные там духи или демоны были тут совершенно ни при чем. Его дом выстроили самые обыкновенные человеческие существа, которые смеялись, - божились, сквернословили, как всякие люди. Утилизатор был просто хитроумным научным изобретением, механизм которого был ему неизвестен и ознакомиться с которым он не стремился.
Мог ли Утилизатор попасть к нему с другой планеты? Непохоже. Едва ли там стали бы ради него изучать английский язык.
Утилизатор, по-видимому, попал к нему из Будущего. Но как?
Коллинз откинулся на спинку кресла и задымил сигарой. Мало ли что бывает, сказал он себе. Разве Утилизатор не мог просто провалиться в Прошлое? Может же он создавать всякие штуки из ничего, а ведь это куда труднее.
Как же, должно быть, прекрасно это Будущее, думал Коллинз. Машины - исполнительницы желаний! Какие достижения цивилизации! Все, что от вас требуется, - это только пожелать себе чего-нибудь. Просто! Вот, пожалуйста! Со временем они, вероятно, упразднят и красную кнопку. Тогда все будет происходить без малейшей затраты мускульной энергии.
Конечно, он должен быть очень осторожен. Ведь все еще существуют законный владелец машины и остальные представителя класса А. Они будут пытаться отнять у него машину. Возможно, это фамильная реликвия...
Краем глаза он уловил какое-то движение. Утилизатор дрожал, словно сухой лист на ветру.
Мрачно нахмурясь, Коллинз подошел к нему. Легкая дымка пара обволакивала вибрирующий Утилизатор. Было похоже, что он перегрелся.
Неужели он дал ему слишком большую нагрузку? Может быть, ушат холодной воды...
Тут ему бросилось в глаза, что Утилизатор заметно поубавился в размерах. Теперь каждое из его трех измерений не превышало двух футов, и он продолжал уменьшаться прямо-таки на глазах.
Владелец?! Или, может быть, эти - из класса А?! Вероятно, это и есть микротрансформацая, о которой говорил Лиик. Если тотчас чего-нибудь не предпринять, сообразил Коллинз, его Исполнитель Желаний станет совсем невидим.
- Охранная служба "Лиик"! - выкрикнул Коллинз. Он надавил на кнопку и поспешно отдернул руку. Машина сильно накалилась.
Лиик, в гольфах, спортивной рубашке и с клюшкой в руках появился в углу.
- Неужели каждый раз, как только я...
- Сделай что-нибудь! - воскликнул Коллинз, указывая на Утилизатор, который стал уже в фут высотой и раскалился докрасна.
- Ничего я не могу сделать, - сказал Лиик. - У меня патент только на возведение временных Стен. Вам нужно обратиться в Микроконтроль. - Он помахал ему своей клюшкой - и был таков.
- Микроконтроль! - заорал Коллинз и потянулся к кнопке. Но тут же отдернул руку. Кубик Утилизатора не превышал теперь четырех дюймов. Он стал вишнево-красным и весь светился. Кнопка, уменьшившаяся до размеров булавочной головки, была почти неразличима.
Коллинз обернулся, схватил подушку, навалился на машину и надавил кнопку.
Появилась девушка в роговых очках, с блокнотом в руке и карандашом, наделенным на блокнот.
- Кого вы хотите пригласить? - невозмутимо спросила она.
- Скорей, помогите мне! - завопил Коллинз, с ужасом глядя, как его бесценный Утилизатор делается все меньше и меньше.
- Мистера Вергона нет на месте, он обедает, - сказала девушка, задумчиво покусывая карандаш. - Он объявил себя вне предела досягаемости. Я не могу его вызвать.
- А кого вы можете вызвать?
Она заглянула в блокнот.
- Мистер Вис сейчас в Прошедшем Сослагательном, а мистер Илгис возводит оборонительные сооружения в Палеолетической Европе. Если вы очень спешите, может быть, вам лучше обратиться в Транзит-Контроль. Это небольшая фирма, но они...
- Транзит-Контроль! Ладно, исчезни! - Коллинз сосредоточил все свое внимание на Утилизаторе и придавил его дымящейся подушкой. Ничего не последовало. Утилизатор был теперь едва ли больше кубического дюйма, и Коллинз понял, что сквозь подушку ему не добраться до ставшей почти невидимой кнопки.
У него мелькнула было мысль махнуть рукой на Утилизатор. Может быть, уже пора. Можно продать дом, обстановку, получится довольно кругленькая сумма...
Нет! Он еще не успел пожелать себе ничего по настоящему значительного! И не откажется от этой возможности без борьбы!
Стараясь не зажмуривать глаза, он ткнул в раскаленную добела кнопку негнущимся указательным пальцем.
Появился тощий старик в потрепанной одежде. В руке у него было нечто вроде ярко расписанного пасхального яйца. Он бросил его на пол. Яйцо раскололось, из него с ревом вырвался оранжевый дым, и микроскопический Утилизатор мгновенно всосал этот дым в себя, после чего тяжелые плотные клубы дыма взмыли вверх, едва не задушив Коллинза, а Утилизатор начал принимать свою прежнюю форму. Вскоре он достиг нормальной величины и, казалось, нисколько не был поврежден. Старик отрывисто кивнул.
- Мы работаем дедовскими методами, но зато на совесть - сказал он, снова кивнул и исчез.
И опять Коллинзу показалось, что откуда-то издалека до него донесся чей-то сердитый возглас.
Потрясенный, обессиленный, он опустился на пол перед машиной. Обожженный палец жгло и дергало
- Вылечи меня, - пробормотал он пересохшими губами и надавил кнопку здоровой рукой.
Утилизатор зажужжал громче, а потом умолк совсем. Боль в пальце утихла, Коллинз взглянул на него и увидел, что от ожога не осталось и следа - даже ни малейшего рубца.
Коллинз налил себе основательную порцию коньяка и, не медля ни минуты, лег в постель. В эту ночь ему приснилось, что за ним гонится гигантская буква А, но, пробудившись, он забыл свой сон.
Прошла неделя, и Коллинз убедился, что поступил крайне опрометчиво, построив себе дом в лесу. Чтобы спастись от зевак, ему пришлось потребовать целый взвод солдат для охраны, а охотники стремились во что бы то ни стало расположиться в его английском парке.
К тому же Департамент государственных сборов начал проявлять живой интерес к его доходам.
А главное, Коллинз сделал открытие, что он не так уж обожает природу. Птички и белочки - все это, конечно, чрезвычайно мило, но с ними ведь особенно не разговоришься. А деревья, хоть и очень красивы, никак не годятся в собутыльники.
Коллинз решил, что он в душе человек городской. Поэтому с помощью такелажников "Поуха минайл", строительной конторы "Максиме олф", Бюро мгновенных путешествий "Ягтон" и крупных денежных сумм, врученных кому следует, Коллинз перебрался в маленькую республику в центральной части Американского континента. И поскольку климат здесь был теплее, а подоходного налога не существовало вовсе, он построил себе большой, крикливо-роскошный дворец, снабженный всеми необходимыми аксессуарами, кондиционерами, конюшней, псарней, павлинами, слугами, механиками, сторожами, музыкантами, балетной труппой - словом, всем тем, чем должен располагать каждый дворец. Коллинзу потребовалось две недели, чтобы ознакомиться со своим новым жильем.
До поры до времена все шло хорошо.
Как-то утром Коллинз подошел к Утилизатору, думая, не попросить ли ему спортивный автомобиль или небольшое стадо племенного скота. Он наклонился к серой машине, протянул руку к красной кнопке...
И Утилизатор отпрянул от него в сторону.
В первую секунду Коллинзу показалось, что у него начинаются галлюцинации, и даже мелькнула мысль бросить пить шампанское перед завтраком. Он шагнул вперед и потянулся к красной кнопке. Утилизатор ловко выскользнул из-под его руки и рысцой выбежал из комнаты.
Коллинз во весь дух припустил за ним, проклиная владельца и весь класс А. По- видимому, это было то самое одушевление, о котором говорил Лиик: владельцу каким-то способом удалось придать машине подвижность. Но нечего ломать над этим голову. Нужно только поскорее догнать машину, нажать кнопку и вызвать ребят из Контроля одушевления.
Утилизатор несся через зал Коллинз бежал за нам. Младший дворецкий, начищавший массивную дверную ручку из литого золота, застыл на месте, разинув рот.
- Остановите ее! - крикнул Коллинз.
Младший дворецкий неуклюже шагнул вперед, преграждая Утилизатору путь. Машина, грациозно вильнув в сторону, обошла дворецкого и стрелой помчалась к выходу.
Коллинз успел подскочить к рубильнику, и дверь с треском захлопнулась.
Утилизатор взял разгон и прошел сквозь запертую дверь. Очутившись снаружи, он споткнулся о садовый шланг, но быстро восстановил равновесие и устремился за ограду в поле.
Коллинз мчался за ним. Если б только подобраться к нему поближе...
Утилизатор внезапно прыгнул вверх. Несколько секунд он висел в воздухе, а потом упал на землю. Коллинз ринулся к кнопке. Утилизатор увернулся, разбежался и снова подпрыгнул. Он висел футах в двадцати над головой Коллинза. Потом взлетел по прямой еще выше, остановился, бешено завертелся волчком и снова упал.
Коллинз испугался: вдруг Утилизатор подпрыгнет в третий раз, совсем уйдет вверх и не вернется. Когда Утилизатор приземлился, Коллинз был начеку. Он сделал ложный выпад и, изловчившись, нажал кнопку. Утилизатор не успел увернуться.
- Контроль одушевления! - торжествующе выкрикнул Коллинз.
Раздался слабый звук взрыва, и Утилизатор послушно замер. От одушевления не осталось и следа.
Коллинз вытер вспотевший лоб и сел на машину. Враги все ближе и ближе. Надо поскорее, пока еще есть возможность, пожелать что-нибудь пограндиознее.
Быстро, одно за другим, он попросил себе пять миллионов долларов, три функционирующих нефтяных скважины, киностудию, безукоризненное здоровье, двадцать пять танцовщиц, бессмертие, спортивный автомобиль и стадо племенною скота.
Ему показалось, что кто-то хихикнул. Коллинз поглядел по сторонам. Кругом не было ни души.
Когда он снова обернулся, Утилизатор исчез. Коллинз глядел во все глаза. А в следующее мгновение исчез и сам.
Когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит перед столом, за которым сидит уже знакомый ему краснолицый мужчина. Он не казался сердитым. Вид у него был скорее умиротворенный и даже меланхоличный.
С минуту Коллинз стоял молча; ему было жаль, что все кончилось. Владелец и класс А в конце концов поймали его. Но все-таки это было великолепно!
- Ну, - сказал наконец Коллинз, - вы получили обратно свою машину, что же вам еще от меня нужно?
- Мою машину? - повторил краснолицый, с недоверием глядя на Коллинза. - Это не моя машина, сэр. Отнюдь не моя.
Коллинз в изумлении воззрился на него.
- Не пытайтесь обдурить меня, мистер. Вы - класс А - хотите сохранить за собой монополию, разве не так?
Краснолицый отложил в сторону бумагу, которую он просматривал.
- Мистер Коллинз, - сказал он твердо, - меня зовут Флайн. Я агент Союза охраны граждан. Это чисто благотворительная, лишенная всяких коммерческих задач организация, и, единственная цель, которую она преследует, - защищать лиц, подобных вам, от заблуждений, которые могут встретиться на их жизненном пути.
- Вы хотите сказать, что не принадлежите к классу А?
- Вы пребываете в глубочайшем заблуждении, сэр, - спокойно и с достоинством произнес Флайн. - Класс А - ото не общественно-социальная категория, как вы, по- видимому, полагаете. Это всего-навсего форма кредита.
- Форма чего? - оторопело спросил Коллинз.
- Форма кредита, - Флайн поглядел на часы. - Времени у нас мало, и я постараюсь быть кратким. Мы живем в эпоху децентрализации, мистер Коллинз. Наша промышленность, торговля и административные учреждения довольно сильно разобщены во времени и пространстве. Акционерное общество "Утилизатор" является весьма важным связующим звеном. Оно занимается перемещением благ цивилизации с одного места на другое и прочими услугами. Вам понятно?
Коллинз кивнул.
- Кредит, разумеется, предоставляется автоматически. Но рано или поздно все должно быть оплачено.
Это уже звучало как-то неприятно. Оплачено? По-видимому, это все-таки не такое высокоцивилизованное общество, как ему сначала показалось. Ведь никто ни словом не обмолвился про плату. Почему же они заговорили о ней теперь?
- Отчего никто не остановил меня? - растерянно спросил он. - Они же должны были знать, что я некредитоспособен.
Флайн покачал головой.
- Кредитоспособность - вещь добровольная. Она не устанавливается законом. В цивилизованном мире всякой личности предоставлено право решать самой. Я очень сожалею, сэр. - Он поглядел на часы и протянул Коллинзу бумагу, которую просматривал. - Прошу вас взглянуть на этот счет и сказать, все ли здесь в порядке.
Коллинз взял бумагу и прочел:
Один дворец с оборудованием 450000000 кр.
Услуги такелажников фирмы
"Поуха минайл", а также фирмы
"Максимо олф" 111000 кр.
Сто двадцать две танцовщицы 122000000 кр.
Безукоризненное здоровье 888234031 кр.
Коллинз быстро пробежал глазами весь счет. Общая сумма слегка превышала восемнадцать биллионов кредитов.
- Позвольте! - воскликнул Коллинз. - Вы не можете требовать с меня столько. Утилизатор свалился ко мне в комнату неизвестно откуда, просто по ошибке!
- Я как раз собираюсь обратить их внимание на это обстоятельство, - сказал Флайн. - Как знать? Быть может, они будут благоразумны. Во всяком случае, попытаемся, хуже не будет.
Все закачалось у Коллинза перед глазами. Лицо Флайна начало расплываться.
- Время истекло, - сказал Флайн. - Желаю удачи.
Коллинз закрыл глаза.
Когда он открыл их снова, перед ним расстилалась унылая равнина, опоясанная скалистой горной грядой. Ледяной ветер, налетая порывами, стегал по липу, небо было серо-стальным.
Какой-то оборванный человек стоял рядом с ним.
- Держи, - сказал он и протянул Коллинзу кирку.
- Что это такое?
- Кирка, - терпеливо разъяснил человек. - А вон там - каменоломня, где мы с тобой вместе с остальными будем добывать мрамор.
- Мрамор?
- Ну да. Всегда найдется какой-нибудь идиот, которому нужен мраморный дворец, - с кривой усмешкой ответил человек. - Можешь звать меня Янг. Нам некоторое время придется поработать на пару.
Коллинз тупо поглядел на него:
- А как долго?
- Подсчитай сам, - сказал Янг. - Расценки здесь - пять-десять кредитов в месяц, и тебе будут их начислять, пока ты не покроешь свой долг.
Кирка выпала у Коллинза из рук.
Они не могут этого сделать! Акционерное общество "Утилизатор" должно понять свою ошибку! Это же их вина, что машина провалилась в Прошлое. Не могут же они этого не знать.
- Все это - сплошная ошибка! - сказал Коллинз.
- Никакая не ошибка, - возразил Яиг. - У них большой недостаток в рабочей силе. Набирают где попало. Ну, пошли. Первую тысячу лет трудно, а потом привыкаешь.
Коллинз двинулся следом за Янгом, потом остановился.
- Первую тысячу лет? Я столько не проживу!
- Проживешь! - заверил его Янг. - Ты же получил бессмертие. Разве забыл?
- А сколько они насчитали мне за бессмертие как раз в ту минуту, когда они отняли у него машину. А может быть, они взяла ее потом?
Вдруг Коллинз что-то припомнил. Странно, в том счете, который предъявил ему Флайн, бессмертия как будто вовсе не стояло.
- А сколько они насчитали мне за бессмертие? - спросил он.
Янг поглядел на него и рассмеялся.
- Не прикидывайся простачком, приятель. Пора бы уж тебе кой-что сообразить. - Он подтолкнул Коллинза к каменоломне.
- Ясное дело, этим-то они награждают задаром.
#70

 Отправлено 10 ноября 2010 - 12:38
Отправлено 10 ноября 2010 - 12:38

Как черт в казаки ходил
Было энто у нас на Волге, под станицей Красноярскою. Раз поутру, на ерике малом, при песочке ласковом, казак коня купал. Ну коли кто про лето астраханское наслышан, тот знает небось, что и поутру солнышко печет-жарит немилосерднейше, тока в водице студеной и отдохновение.
Сам казак молодой, в левом ухе с серьгой, сложением обычный, усами типичный, смел да отважен, но нам не он важен. Разделся, значится, парень, до креста нательного, форму под кустик аккуратно складировал, да и повел коня на мелководье водицей плескать, брызгами радовать.
А покуда он сам купается, нужным делом занимается, шел вдоль бережку натуральнейший черт. Шустрый такой, сюртучок с иголочки, брючки в елочку, стрекулист беспородный, но как есть — модный! Глядь-поглядь, видит, казак православный коня в речке ополаскивает.
Облизнулся черт, так и эдак примерился, да приставать не рискнул — мало ли, не оценят страсти, так дадут по мордасти! Однако ж и мимо пройти, да никакой пакости душе христианской не содеять — это ж не по-соседски будет. И замыслил нечистый дух у казака всю одежу покрасть.
Ить для чертей седьмую заповедь рушить дело привычное, тут они любого цыгана переплюнут, да вокруг небеленой печки три раза на пьяной козе прокатят! Мигу не прошло, как упер злодей рогатый всю форму казачью.
За деревцем укрылся, дыхание восстановил, добычу обсмотрел, и уж больно она ему запонравилась. Желтая да синяя, кокарда красивая, погоны настоящие, пуговки блестящие, вот сапоги велики, но когда крал, дак кто ж их знал?!
Загорелось у него ретивое, заиграла кровь лягушачья, засвербило в месте непечатаемом, скинул он одежонку свою барскую, да сам во все казачье и обрядился. Ну думает, теперича я — вольный казак! Никто мне не указ, пойду по станице гулять, лампасами вилять, рога под фуражкой и за рюмашку с Машкой.
Усики подкрутил, хвост поганый в штаны засунул, да и дунул прямиком в станицу Красноярскую, что на берегу крутом, волжском раскинулась. Спешит черт, спотыкается, и невдомек ему, что похож он на казака, как невеста на жениха. Одна одежа — ни рожи, ни кожи, при его недокорме — так, вешалка в форме.
Да вдруг у самой околицы навстречу ему поп! Голос басистый, руки мясистые, ряса не новая, брови суровые, казачьего рода, здешней породы. Струхнул чертушка, но виду не подал, гонором исполнился, грудь колесиком выгнул — идет себе важничая, одуванчики безвинные сапогом пинает.
— Ты почто это, сын божий, на храм не крестишься? — вопрошает строго батюшка.
— А я вольный казак! — бросает черт нехотя. — Сам пью, сам гуляю, вам-то в ухо не свищу, а лоб и завтра перекрещу.
— Я те дам завтра! — ажио побагровел поп православный, да как отвесит нечистому леща рукой могучей, дланью пастырской. — Вдругорядь и не такую епитимью наложу! А ну марш до хаты и до утра на коленях пред иконами каяться, самолично проверю-у!
Бедный нечистый аж на четвереньки брякнулся, пыли наелся, да так на карачках и побег. Думает, еще легко отделался. Знал бы поп, что перед ним черт, так и крестом пудовым меж рогов треснуть мог!
Черт за угол свернул, на ножки встал, отряхнулся, оправился и дальше форсить пошел. А на завалинке старой, у плетня драного, сидят три старичка ветхих. Сединами убеленные, недорубленные, недостреленные, глядят себе в дали, и грудь — в медалях!
Шурует мимо черт, вежливости не кажет, нос воротит.
— Ты почто ж энто, байстрюк, со старыми людьми не здоровкаешься? — удивились старики.
— А я вольный казак! — говорит рогатый со снисхожденьицем. — Сам пью, сам гуляю! Уж вы-то сидите не рыпайтесь, ить не ровен час и рассыплетесь!
— От ведь молодежь пошла, — вздохнули дедушки, с завалинки привстали да клюками суковатыми так черта отходили, что приходи кума любоваться! Едва бедолага живым ушел.
— А родителям накажи, невежа, что мы-де к вечеру будем, о воспитательности беседовать. Пущай-де заранее розги в рассоле мочут…
Летит нечистый, не оборачивается, тока пятки сверкают. Ему ужо и не в радость казаком-то быть. Тока форму надел, как вокруг беспредел — бьют до воя смертным боем. За что — понятно, а все одно неприятно!
Тут и врезался несчастный козырьком лаковым в грудь могучую, дородную. Присел чертушка, глазоньки разожмурил и обратно закрыть предпочел, потому как стоит перед ним сам станичный атаман! Мужчина солидный, собою видный, нраву крутого — сбей-ка такого.
Смотрит на черта и слов не находит:
— Ты что ж, сукин сын, средь бела дня по станице в виде непотребном шастаешь? Гимнастерка расстегнута, ремень висит, сапоги нечищены, а под глазом, мать честная, еще и фонарь синий светится?!
— А я вольный казак! — пискнул черт жалобно. Чует, как-то не свезло ему с энтой фразою, да поздно. — Сам пью, сам гуляю! Так что, батька, может, вместе водки попьем да и песню споем?
— Ох ты ж, шалопай! — улыбнулся по-отечески атаман и плечиком повел. — А ну хватайте его, хлопцы, нагайки берите, да и впарьте ума задарма! Чтоб от души, да на все хватило: и на песни, и на водку, и на каспийскую селедку. Будет впредь честью казачьей дорожить!
В единый миг вылетели откель ни возьмись чубатые молодцы, разложили черта на лавочке, штаны спустили, да тока размахнулися, смотрют, а наружу-то хвост чертячий торчит! Ахнули они:
— Батька-атаман, так это ж не казак, а дух нечистый!
— Вот именно! — вопит чертушка, извивается. — А раз я не казак, так и нельзя меня так! По судам затаскаю-у!..
Атаман в затылке почесал, подумал, да и согласился:
— Раз не казак, то пороть его нагайками и впрямь не по чину будет. Однако коли уж сам черт форму надеть не постеснялся, то отметить энто дело все равно следует! Ужо лично, рукой начальственной повожу, честь окажу — во имя Отца, и Сына, и Святаго духа… Ну-кась, дайте мне пук крапивы!
Перекрестился он, да три раза задницу волосатую с хвостом облупленным крапивным кустом с размаху и припечатал! А крапива-то не рвется, не ломается, листиками жжет, обвивается — надолго-о-о запоминается.
Диким визгом на ноте несуществующей взвыл аферист рогатый, буйным ветром из рук казачьих вырвался, да как пошел вкруг станицы веерно круги наматывать для успокоения! Тока пыль столбом, кошки глаза пучат, собаки неуверенно гавками отмечаются, да куры-несушки матерятся сообразно ситуации, как все в их нации.
Насилу нечистый к реке дорогу нашел. Форму на место вернул, не повредничал, пылиночки сдунул, сапоги платочком обтер. А сам, говорят, доныне из пекла и носу не высовывает — мемуары пишет, о том, как в казаки ходил. Вот тока стоя… сидеть-то ему до сих пор больно.
Стало быть, казаком не одежкой становятся, не острой шашкой, не форменной фуражкой. Было б время — подсказал, да вы, поди, и сами башковитые?!
Эх, горе, тони в море, а доброму люду — дай сказку, как чудо…
#71

 Отправлено 10 ноября 2010 - 06:17
Отправлено 10 ноября 2010 - 06:17

Когда от нас уходили Коммунисты, они остановили часы на спасской башне и все вокруг окаменело.
И Коммунисты вошли мимо каменных солдат в Мавзолей и разбили Гроб Хрустальный. Они сняли с Ленина голову, вытрясли из нее ненужную солому и набили мозгами из свежих отрубей с иголками. Они вырезали ножницами дыру в чорном его пиджаке и поместили внутрь алое кумачовое сердце. И сердце забилось и встал Ленин и поднесли ему Смелость в бутылочке. Выпил Ленин Смелость и тут же стал как прежде приплясывать на мягких соломенных ножках и подмигивать сразу двумя нарисованными на голове глазами.
После этого вышли Коммунисты с Лениным подмышкой из Мавзолея и свистнули в два пальца. И вывел им Голый Мальчик из-за гума четырех Красных Коней. Вскочили Коммунисты в седла, достали из подсумков пыльные шлемы еще с египетских времен, и медленным шагом пошли их кони навстречу красному не нашему солнцу в полнеба.
И забили барабаны, и в посередине реки Яик всплыл на минуту Чапай облепленный раками, и в Трансильвании заскрежетал в могиле зубами товарищ Янош Кадар, и обнялись в земле Николае и Елена Чаушеску. И Лев Давидович Троцкий зашарил рукой в истлевшем гробу в поисках пенсне, но пенсне конечно пожалели сволочи в гроб положить, и он затих уже навсегда. И выкопались из земли Валя Котик и Зина Портнова, и Павлик Морозов, и Володя Дубинин и отдали последний пионерский салют. И молча встали Алексей Стаханов и Паша Ангелина, Сакко и Ванцетти, Че Гевара и Патрис Лумумба и все те, кого вы суки забыли или даже никогда и не слышали. И одновременно сели в своих американских кроватях и закричали толстая чорная Анжела Дэвис и навсегда голодный дедушка Хайдер.
А Коммунисты уходили все дальше и дальше: мимо каменной очереди в макдональдс и каменной ссущей за углом бляди, пока не превратились в точки. И погасла навсегда Красная Звезда, с которой они прилетели много тысяч лет назад, чтобы сделать нас счастливыми.
И снова пошли часы на спасской башне, и мы тоже пошли дальше, шмыгая носом. И нихуя мы ничего не заметили и не поняли.
Что не будет уже Будущего и никогда уже не дадут нам каждому по потребности, и не построят нам висячих дворцов и самодвижущихся дорог, не проведут нам в кухню пищепровод и никого из наших знакомых никогда уже не назовут Дар Ветер. Что и мы и дети наши и праправнуки так и будем вечно пять дней в неделю ходить на работу, два дня растить чорную редьку, потом на пенсию, потом сдохнем.
А не нужно было тогда, когда счастье было еще возможно, пиздить на заводе детали и перебрасывать через забор рулон рубероида, строить в сарае самогонный аппарат и слушать чужое радио. Тогда не обиделись бы Коммунисты и не ушли бы от нас.
Просрали, все просрали, долбоебы.
© Дмитрий Горчев, 2002-2010.
#74

 Отправлено 11 ноября 2010 - 08:59
Отправлено 11 ноября 2010 - 08:59

Морская раковина.
Ему хотелось выскочить из дома и побежать, прыгать через изгороди, гонять консервные банки, звать через открытые окна ребят. Солнце стояло высоко, в небе ни облачка, а он должен был лежать под простынями и одеялами, потеть, хмуриться и сердиться.
Шмыгнув носом, Джонни Бишоп приподнялся и сел. В толстой палке из солнечных лучей, ударившей, чтобы их согреть, по пальцам его ног, висели апельсиновый сок, микстура от кашля и запах духов его матери, которая только что ушла из комнаты. Нижняя половина одеяла из лоскутков, красных, зеленых, лиловых и голубых, была похожа на цирковое знамя. Их пестрота и яркость били в глаза, как в уши бьет крик. Джонни нетерпеливо заерзал.
- Хочу на улицу, - тихо пожаловался он сам себе. - Черт бы все побрал.
Рассыпая прозрачными крыльями сухое стаккато и жужжа, об оконное стекло билась муха.
Он посмотрел на нее с пониманием: неудивительно, что ей тоже хочется на улицу! Потом покашлял и пришел к выводу: дряхлые старики так не кашляют, так может кашлять только одиннадцатилетний молодой человек, который через неделю снова будет рвать тайком яблоки в чужих садах и стрелять жеваной бумагой в учителей.
В коридоре быстро и весело застучали по свеженатертому полу каблуки, дверь отворилась, и вошла мать.
- Почему это ты не лежишь, мой друг? - сказала она. - Ложись сейчас же.
- Мне уже лучше. Честное слово.
- Доктор сказал: еще два дня.
- Два? - Нужно было показать, как он потрясен. - Это обязательно, болеть так долго?
Мать рассмеялась.
- Нет, не болеть... но в постели оставаться. - Она легонько шлепнула рукой по его левой щеке. - Хочешь еще апельсинового сока?
- С лекарством или без?
Мать сделала удивлённое лицо.
- С лекарством? Каким?
- Я тебя знаю! Подкладываешь лекарство в апельсиновый сок, чтобы я не заметил. Но я все равно его чувствую.
Мать засмеялась.
- На этот раз без лекарства.
- А что у тебя в руке?
- А, это? - Мать протянула ему что-то гладкое, переливающееся в лучах солнца, скрученное в спираль. Он взял. Предмет был твердый, блестящий... и красивый.
- Оставил тебе доктор Гулль, он заходил несколько минут назад. Дал, чтобы ты немного развлекся.
Он посмотрел на эту штуковину с некоторым сомнением. Потом погладил ее своей маленькой рукой.
- Как же я развлекусь? Я не знаю даже, что это такое.
Мать улыбнулась - словно солнце засияло в комнате.
- Это, Джонни, морская раковина. Доктор Гулль нашел ее в прошлом году на берегу Тихого океана.
- А, понятно. А откуда она там взялась?
- О, я не знаю. Возможно, очень давно она служила домом для какой-то формы морской жизни.
Его брови поднялись.
- Домом? Значит, кто-то в ней жил?
- Да.
- Нет, правда?
Она повернула раковину в его руке.
- Если не веришь, приложи вот этим концом к уху.
- Вот так? - Он поднес раковину к розовому ушку и крепко прижал ее. - А теперь что делать?
Мать улыбнулась.
- А теперь, если помолчишь и прислушаешься, ты кое-что услышишь.
Он прислушался. Неощутимо открылось его ухо - так раскрывается навстречу свету цветок.
На каменистый берег набежала и разбилась титаническая волна.
- Море шумит! - закричал Джонни. - Ой, мам! Океан! Волны! Море!
Волны накатывались на далекий скалистый берег. Джонни зажмурился и улыбнулся, его лицо стало от этого вдвое шире. Грохочущие волны с ревом врывались в маленькое жадное ушко.
- Да, Джонни, - сказала мать. - Ты слышишь море.
День подходил к концу. Джонни лежал на спине, утонув головой в подушке; в ладонях у него, как в колыбели, лежала раковина, и он поглядывал, улыбаясь, в большое окно справа от постели. Был виден весь пустырь на другой стороне улицы. По нему, как потревоженные жуки; носились мальчишки, и было слышно, как они кричат: "Это я убил тебя первый!" - "А сейчас я тебя!" Или: "Так нечестно!" Или: "Теперь командиром буду я, а то не играю!"
Казалось, эти голоса звучат где-то вдалеке и, словно качаясь на волнах солнечного света, то приближаются, то удаляются. Солнечный свет был как глубокая, сияющая золотая вода, эта вода лизала берег лета и грозила залить его. Медленная, ленивая, теплая, почти неподвижная. Мир отражался в ней вверх ногами, и все в нем было замедленное. Медленней тикали часы. Медленно-медленно прокатился по улице пышущий жаром металл трамвая. Будто смотришь кино, и у тебя на глазах кадры замедляются и стихает постепенно звук. Все стало мягче и расплывчатей. И ничто больше не имело значения.
До чего хочется выйти и поиграть! Он не сводил с ребят глаз - смотрел, как они в неподвижном зное залезают на заборы, играют в мяч, бегают на роликах. Голова все тяжелела, тяжелела, тяжелела. Веки, как занавес, опускались все ниже, ниже. Морская раковина лежала на подушке около его уха. Он снова прижал ее.
Бух-х - разбивались волны, тр-рр - рассыпались на песке. На желтом песке берега. А когда откатывались назад, на песке оставались пузыри пены, похожие на те, что падают из медвежьей пасти. Пузыри лопались и исчезали, как сновиденья. И снова волны, и снова пена. И, переворачиваясь в ряби отступающих волн, омытые соленой влагой, разбегались в разные стороны коричневые пятна - песчаные крабы. Буханье холодной зеленой воды, прохладный песок. Звук создавал картины; маленькое тело Джонни овевал легкий бриз. И внезапно жаркий день перестал быть давящим и жарким. Часы затикали быстрей. Скорее залязгал металл трамваев. Глухие удары волн о невидимый сверкающий пляж подстегнули медлительный мир лета, и он ожил и задвигался.
Да, теперь он понял: лучше этой раковины ничего нет на свете. В любой долгий и скучный день только приложи ее к уху - и ты уже проводишь каникулы на далеком, обдуваемом всеми ветрами берегу.
Четыре тридцать, сказали часы. Время принимать лекарство, сказали быстрые звонкие шаги матери в сверкающем коридоре. Она поднесла к его рту серебряную ложку с лекарством. Вкус, увы, был... какой бывает у лекарства. Джонни скорчил гримасу, заготовленную специально для таких случаев. Чтобы скорее перестать чувствовать этот вкус, он запил молоком, а потом посмотрел вверх, на доброе, светлое лицо матери, и спросил:
- Можем мы когда-нибудь поехать на море, мам?
- Конечно. Может быть, на Четвертое Июля, если твой отец получит свой двухнедельный отпуск в это время. За два дня доедем на машине до берега, проведем там неделю и вернемся.
Джонни сел поудобней; глаза у него были какие-то чудные.
- Я никогда не видел настоящего моря, а только в кино. Готов поспорить, оно и пахнет по-другому, и вид у него другой, чем у нашего Лисьего Озера. Оно огромное и в тысячу раз лучше. Так обидно, что нельзя прямо сейчас туда отправиться!
- Ждать недолго, сынок. Вы, дети, такие нетерпеливые.
- Очень хочется.
Она села на кровать и взяла его за руку. Не все, что она сказала, было понятно, но кое-что он все же понял.
- Если бы мне пришлось писать книгу о философии детства, я бы, наверно, назвала ее "Нетерпение". Нетерпение во всем. Вынь да положь - и так всегда. Завтра кажется далеким-далеким, вчера словно не было. Племя Омаров Хайямов - вот вы кто. Живете минутой. Станешь старше, поймешь, что способность быть терпеливым, ждать, заранее рассчитывать говорит о зрелости, то есть о том, что ты стал взрослым.
- Не хочу быть терпеливым. Не хочу лежать в постели. Хочу на морской берег.
- А на прошлой неделе ты хотел бейсбольную перчатку, сейчас и ни минутой позже! "Пожалуйста, ну пожалуйста! - просил ты. - Ой, какая она красивая, ты только на нее посмотри! И последняя в магазине, на полке больше ни одной не осталось!"
Какая же все-таки она странная, эта мама!
А мать продолжала между тем:
- Помню, однажды, когда я еще была маленькой девочкой, я увидела в магазине куклу. Я показала на нее маме, сказала, что эта последняя, все остальные проданы и эту тоже продадут, если ее не купить сейчас же. На самом деле на полке было не меньше десятка таких кукол. Просто у меня не было сил ждать. Мне тоже не хватало терпения.
Джонни повернулся на бок. Глаза его стали широкие-широкие и были полны теперь голубого света.
- Но я не хочу ждать! Если я буду слишком долго ждать, я вырасту, и мне уже не будет интересно.
На это она не сказала ни слова. Она сидела в той же позе, но пальцы ее рук теперь судорожно сжимались, а глаза стали влажными, может быть, из-за того, о чем она думала. Она зажмурила глаза, открыла снова и сказала:
- Иногда мне... кажется, что дети знают о жизни больше, чем мы, взрослые. Кажется, что ты... прав. Но я не решаюсь тебе об этом сказать. Это... как бы не по правилам.
- Каким, мама?
- Цивилизации. Радуйся жизни, Джонни. Радуйся, пока ты ребенок.
Она произнесла это громко, и голос был не такой, как всегда.
Джонни прижал раковину к уху.
- Мама! Знаешь, чего бы мне хотелось? Оказаться прямо сейчас на берегу моря, бежать к воде, держаться за нос и кричать: "Кто последний - обезьяна!"
И он весело рассмеялся.
Внизу, на первом этаже, зазвонил телефон. Мать пошла взять трубку.
Джонни лежал и слушал раковину.
Еще целых два дня впереди. Он опять поднес к уху раковину и вздохнул. Целых два дня! В комнате было темно. В больших квадратах окна томились пойманные звезды. Ветер покачивал деревья. На тротуаре внизу взвизгивали, раскатываясь, ролики.
Он закрыл глаза. Снизу, из столовой, доносился стук ножей и вилок. Отец с матерью ужинали. Вот отец рассмеялся своим звучным смехом.
Волны по-прежнему разбивались одна за другой о берег внутри морской раковины. И... что-то еще слышно:
- Там, где катятся валы, где играет с волной волна, где криком чаек полны утро и вечер дня...
- Что?!
Он замер. Прислушался. Удивленно заморгал.
И еще, чуть слышно:
- ...Солнце на волнах, море без дна. Э-гей, э-гей, приналягте, друзья...
Будто сотня, а то и больше голосов пели под скрип уключин.
- ...Придите к морю, где паруса...
И другой голос, совсем отдельный, едва различимый сквозь шум волн и океанского ветра:
- Приди же к морю-циркачу, что за валом бросает вал; к сверканью соли на берегу, по тропе, которой не знал...
Он отнял раковину от уха, изумленно на нее посмотрел. Потом прижал снова.
- ...Ты хочешь ли к морю, мой маленький друг, хочешь ли к морю прийти? Так возьми меня за руку, маленький друг, возьми меня за руку, маленький друг, и вместе со мной иди!
Дрожа, он крепче прижал раковину, приподнялся и сел в постели, часто-часто дыша. Сердце прыгало и билось о стенку его груди.
Волны глухо ударялись о далекий берег и рассыпались брызгами.
- ...Ты когда-нибудь раковину видал? Перламутровый штопор морей, широкий вначале, сходит на нет, вот здесь он вьется, вот тут его нет, но, мой мальчик, конец у него все же есть - там, где камни от пены белей!
Маленькие пальцы вжались в спираль раковины. Да, все правильно. Раковина закручивается, закручивается, закручивается, а потом вдруг ничего нет.
Он закусил губу. Что... что такое говорила мама? Про детей. Про какую-то... философию детей? Про нетерпение. Нетерпение! Да, правда, он нетерпелив! Ну и что в этом плохого? Его свободная рука, сжавшись в маленький, твердый и белый кулак, ударила по стеганому одеялу.
- Джонни!
Молниеносным движением Джонни отнял раковину от уха, сунул под простыню. По коридору от лестницы к двери его комнаты приближались шаги отца.
- Спокойной ночи, сынок.
- Спокойной ночи, пап!
Мать и отец крепко спали. Было далеко за полночь. Тихо. Он вытащил бесценную раковину из-под простыни и поднес к уху.
Да, все как было. По-прежнему шумят волны. И вдалеке скрип уключин, щелканье раздуваемого ветром паруса, слова песни, чуть слышные в порывах соленого морского ветра.
Он прижимал раковину к уху сильней и сильней.
В коридоре застучали каблуки матери. Шаги остановились, она открыла дверь и вошла.
- Доброе утро, сынок! Ты все еще спишь?
Постель была пуста. В комнате только тишина и солнечный свет. Этот свет лежал в постели как лучезарный больной, и на подушке покоилась его сотканная из лучей голова. Стеганое одеяло, это красно-голубое цирковое знамя, было откинуто. Смятая постель была как бледное старческое лицо в морщинах и казалась пустей пустого.
Мать нахмурилась и громко топнула.
- Вот шалун! - воскликнула она. - Наверняка убежал играть с соседскими головорезами! Ну погоди! Потом... - Она умолкла и улыбнулась. - ...Шалунишка узнает, как крепко я его люблю. Дети так... нетерпеливы.
Она подошла к постели и начала приводить ее в порядок, и вдруг рука наткнулась под простынями на какой-то твердый предмет. Мать вытащила на свет что-то гладкое и блестящее.
Она опять улыбнулась. Это была раковина.
Мать сжала ее в руке и поднесла к уху - просто так. Глаза у нее стали совсем круглые. Рот приоткрылся.
Комната завертелась вокруг нее застекленной каруселью с яркими стегаными знаменами.
Раковина ревела ей в ухо.
Волны с грохотом разбивались о далекий берег. Откатывались, оставляя холодную пену на неведомом пляже.
Потом - топот бегущих по песку детских ног. Тонкий мальчишеский голос прокричал:
- Эй, ребята, скорее! Кто последний - обезьяна!
И - звук маленького тела, бултыхнувшегося в эти волны...
Сообщение изменено: кузнец (11 ноября 2010 - 09:00)
#75

 Отправлено 23 ноября 2010 - 01:36
Отправлено 23 ноября 2010 - 01:36

Шестое чувство
– Ты должен ее соблазнить, Вася! Просто обязан, – шептал в ухо Еремину возбужденный Павел. – Наша последняя надежда – ее помощь. Иначе представительство закроют, а нас с тобой – расстреляют. И хорошо, если просто расстреляют. Такая удача, что у этого Иваненко есть дочь. К тому же, умница, красавица и стерва.
– Угу, – без особого энтузиазма ответил Василий. – Я понимаю…
– Ничего ты не понимаешь! Она ведь, в сущности, замечательная девушка! А то, что характер подкачал – так это нам только на руку. Жениха у нее постоянного нет – тебе все карты в руки.
– Как подумаю об этом – тошно.
– А в пескоструйный аппарат тебе не тошно? – оскалился Павел. – Какие мы нежные!
– Ладно… Я попробую. Но если дело дойдет до постели…
– Должно дойти! Издали глазки строить не получится! И ты обязан стать мужчиной ее мечты.
– Ага, – еще более скептически ответил Еремин. – Надеюсь, хотя бы в средствах я не ограничен?
– Все ресурсы нашего представительства – твои. Только пошевеливайся. До вынесения меморандума осталось каких-то три дня. Всего три дня, Вася!
– Ладно. Постараюсь. Куда она денется? Только смогу ли я пересилить себя?
– В сущности, она гораздо симпатичнее, чем, скажем, Анечка из секретариата, к которой ты безуспешно клеишься второй год.
– Анечка – наш человек. А эта – дикарка!
– Ты хочешь сказать, что она не привлекательна?
– Я не могу относиться к ней так же, как к Анечке… Да и вообще, ты прекрасно понимаешь, о чем я.
– Ты намекаешь, что она шелушится?
– Ну, в общем-то, да.
– А ты ее шелушил? Или у тебя шелушение слишком развито?
– Все у меня, как у всех.
– Зато ты не как все. Ты обаятельный.
– Возможно. Пойду, приму ультразвуковой душ. А то как-то не по себе после всех твоих намеков…
* * *
Малиновый кабриолет припарковался прямо у входа в «Занзибар», под знаком «стоянка и остановка запрещена». Посетители ночного клуба, курящие на улице, с интересом разглядывали машину – и парня, который на ней приехал, конечно. Одет он был в темно-серый костюм. Пиджак – двубортный, галстук – малиновый, под цвет автомобиля, рубашка розовая.
– Что за клоун? – спросила у подруги Ксения.
– Первый раз вижу, – ответила та.
– Может, чей-то водитель?
– Машина незнакомая. Да и стрижка у него на водительскую не похожа…
Пострижен парень был, в самом деле, причудливо – блестящие черные волосы закрывали уши, лежали, казалось бы, в беспорядке – но любая девушка могла поручиться, что совсем недавно парню делали укладку. Очень уж художественным был беспорядок.
– Голубой?
– Вряд ли…
На ходу вручив швейцару ключи от автомобиля и купюру, молодой человек направился к дверям. Но, не дойдя до них каких-то двух шагов, резко повернулся, оказавшись лицом к лицу с Ксенией.
– Сражен вашей красотой, – приятным баритоном проговорил он.
Девушка фыркнула. Стоит только надеть мини-юбку – и пять таких подходов за вечер гарантированы.
– Прямо-таки наповал?
– Практически. Не разрешите ли присоединиться к вашей компании? Я чужой здесь.
Ксения пристально взглянула в глаза парня.
– Разве это наши проблемы?
– Нет. Но я надеялся, вы мне не откажете, – он выглядел совершенно спокойным. Может быть, даже отчужденным и незаинтересованным.
– Смотря в чем, дружок, смотря в чем, – усмехнулась Ксения. Этому парню, видно, палец в рот не клади. – Зовут тебя как?
– Василий.
– Хорошее имя. У меня кот – Васька.
– Вот видите! – парень доброжелательно улыбнулся.
Ксения вскинула бровь и кивнула – пойдем с нами. Василий галантно, без суеты пропустил их вперед и уверенной походкой вошел следом. По сторонам он не оглядывался, словно бы ходил в клуб каждый день. Хотя Ксения была уверена – она видит его в «Занзибаре» первый раз.
* * *
– Ты славный, Вася! – после пятого коктейля Ксения улыбалась немного часто и шире, чем нужно, но по сравнению с Мариной, которая постоянно глупо хихикала по поводу и без, держалась просто отлично.
– Спасибо. Мне лестна ваша оценка.
Казалось бы, парень говорил высокопарно, но звучало это так естественно, что хотелось улыбнуться ему, согласиться, спросить что-то еще. А потом – взять за руку, может быть, даже прижать к себе…
– Поедем, покатаемся? – спросил Василий.
– Все вместе? – Ксения взглянула на молодого человека удивленно. Пожалуй, она слишком поспешно выразила свое недоумение, но как тут не возмутиться… Хотя, возможно, он предполагает, что они завезут Марину домой. Или что она не захочет поехать…
– Кататься! Кататься! – радостно закричала Марина. – У тебя такая классная машина! Какой марки?
– Ее собирали по спецзаказу, – широко и спокойно, без всякого оттенка хвастовства улыбнулся парень. – Это несерийная модель. Единственная в своем роде.
Марина даже слегка рот приоткрыла. Дура. Могла бы и догадаться, что ее кататься зовут только из вежливости. Ведь за столиком он не спускал глаз с Ксении. А с ее подругой говорил, только когда она сама что-то спрашивала.
Василий расплатился, оставив «на чай» неприлично большую сумму, и они не торопясь вышли на улицу. Автомобиль уже стоял у входа. Марина поспешно влезла в кабриолет – хорошо, хоть на заднее сидение. Ксения тоже не стала садиться вперед. Не хватало еще. Пусть знает – никто к нему в объятия падать не собирается. Хотя так хочется…
Автомобиль сорвался с места резко, но без пробуксовки. Хорошая резина, опытный водитель. Девушки едва не упали друг на друга. Василий, глядевший в зеркало, усмехнулся. Без ехидства – просто ему было забавно, и ничего тут обидного нет. Ксения бы сама посмеялась в таком случае. С их новым знакомым на самом деле было весело и хорошо.
– А музыка у тебя есть? – спросила Марина.
Василий кивнул, нажал на сенсор панели управления. Звук был не хуже, чем на аппаратуре «Занзибара», хотя машина мчалась по шумной улице.
– Что за группа? – поинтересовалась Ксения. – Странные песни какие-то…
– «Мельница», – ответил парень. – Я думал, ее вся столица слушает.
– В клубах такое не крутят.
– Смотря, в каких клубах.
Машина вырвалась за город неожиданно быстро – словно бы до кольцевой было километра два, а не двадцать. Марина, качавшая головой в такт музыке, уснула, привалившись к обитой кожей мягкой дверце. Василий сделал музыку тише, но выключать проигрыватель не стал.
– Куда мы едем? – поинтересовалась Ксения.
– А ты как хочешь?
– Это вопрос второй. Ты ведь куда-то меня везешь?
«Меня» а не «нас» она сказала нарочно – Василий возражать не стал. Действительно, он вез ее. С подругой.
– Куда глаза глядят. Здесь речка поблизости. Хочешь?
– На речку? – Ксения удивилась. – Ну, поехали…
Через пару километров кабриолет свернул на темную проселочную дорогу, а потом с асфальта – на грунтовку. Яркий свет фар выхватывал из темноты причудливо скорчившиеся вдоль обочины кусты. Несмотря на то, что машина практически не снизила скорости, а дорога была в ямах, почти не трясло – только мягко качало. Марина мурлыкнула во сне.
Река извивалась во тьме, как огромная змея, или призрачная дорога. От нее поднимался пар.
Василий остановил автомобиль прямо на песчаном берегу, вышел из машины, открыл дверцу Ксении. Та осторожно ступила в мягкий песок.
– Искупаемся? Вода теплая, – предложил он.
Девушка в изумлении воззрилась на нового знакомого.
– У меня и купальника нет…
– Тебя это смущает?
Ксения усмехнулась, расстегнула блузку, бросила ее на заднее сидение. Бюстгальтера на ней не оказалось.
– Может, ты все же отвернешься?
Василий смотрел на нее, не отводя глаз, но как-то странно. Без вожделения, без смущения – только с некоторым любопытством. Словно бы девушки раздевались перед ним каждый день. Может быть, он доктор? Но ведь она не на приеме…
– Да, конечно… – парень аккуратно потянул через голову рубашку, расстегнул ремень на брюках.
В воду они вошли, держась за руки. Песок быстро закончился, дно стало илистым, вязким.
– Я не хочу здесь купаться… Ногам противно, – тихо сказала девушка.
Василий подхватил ее на руки, понес вперед. Ксения подняла руки, обняла молодого человека за шею. Потом погладила по щеке, отстранила длинную прядь с уха… Его губы были так близко… Пахло от него восхитительно – чем-то свежим и притягательным. Но вместо романтического поцелуя девушку ждала большая неожиданность. Молодой человек швырнул ее в воду, а сам несколькими мощными гребками вылетел на середину реки.
Ксения была так ошарашена, что даже ничего не сказала, когда отплевывалась от пахнущей тиной речной воды. Да и что здесь говорить? Надо только догнать этого Васю и врезать ему от всей души.
Но Василий, как ни в чем не бывало, кричал с середины реки:
– Плыви сюда! Как вода, нравится?
Может быть, он сумасшедший? Или не понял, чего она от него хотела? Так ведь не мальчик уже, вроде…
Ксения не спешила на зов, и Василий приплыл сам.
– Представь, сейчас Маринка проснется? – с почти детским восторгом сказал он. – Лес, тишина, и никого…
– Ты любишь людей пугать?
– Нет, не особенно.
– Зачем тогда кинул меня в воду? – строго спросила Ксения.
– Мы дошли до глубокого места. Можно было плыть.
– А… Понятно. Не мешало бы предупредить.
– Ты разве не почувствовала, что я уже весь в воде? Извини.
Ксения вцепилась в ухо парня острыми ногтями, с силой выкрутила его:
– Никогда больше так не делай. Понял?
– Понял. Отпусти, – терпеливо попросил Василий.
– Компенсацию не хочешь? – Ксения опять придвинулась к парню вплотную.
И тогда он поцеловал ее. Так, что девушка не почувствовала под собой дна, хотя воды было только по грудь. А потом на руках вынес из воды. Правда, почему-то при этом отворачивался.
* * *
Домой ехали медленнее, чем на реку. Проснувшаяся Марина недовольно ворчала, требуя срочно заехать куда-нибудь и выпить чашечку кофе – у нее болела голова. Василий достал из кармана пиджака серебряную фляжку с коньяком, отдал девушке. Та, вроде бы, удовлетворилась предложенным напитком – коньяк не был горячим, но от головной боли помогал.
Ксения на нового друга старалась не смотреть. Тогда, в реке, он почти оттолкнул ее. Поцеловал раз, другой. И потащил к берегу. Это нормальный мужчина? Плюс ко всему, на ней почти ничего не было… И она сама так недвусмысленно к нему льнула. Надо же было так опозориться…
– Мариночка, где ты живешь? – подал голос Василий. – Мы тебя отвезем.
– На Каширском шоссе.
– Поворачиваем туда. Ты ведь не против, Ксения?
– Нет.
Ей тоже хотелось коньяка, но не хватало еще пить из фляжки в машине… Тем более, из его фляжки.
У подъезда своего дома Марина расцеловала Ксению, потом повисла на Василии, намереваясь его облобызать – явно не по-сестрински. Ксению утешило только то, что парень брезгливо отворачивался и смущенно поглядывал на нее.
– Мне в Сокольники, – бросила Ксения, пересаживаясь на переднее сидение.
Василий пристально всмотрелся в ее лицо.
– Может, поедем ко мне?
– Вот так, сразу?
– Почему нет?
– А зачем? Что мы будем там делать?
– Покажу тебе свою библиотеку, – Василий улыбнулся.
– Ты полагаешь, мне интересно разглядывать пыльные книжки?
– У меня есть джакузи.
– Намекаешь, что речную тину неплохо смыть? Или твое предложение более непристойно?
– Как тебе будет угодно. К тому же, ко мне в два раза ближе, чем в Сокольники.
– Если тебе тяжело меня отвезти, возьму такси.
– Мне бы очень этого не хотелось.
– Ладно, поехали. Но на многое не надейся.
Опять играла музыка, машина мчалась по ночному городу, словно бы не по асфальту, а по воздуху. Василий гладил колено Ксении, та тихонько мурлыкала – так нежно и бережно он это делал.
Целоваться они начали еще в подъезде. Когда оказались в просторном холле, Ксения прошептала:
– Не надо никакого джакузи.
– Нет, давай примем душ.
– Я не хочу!
– Но после речки…
Глаза девушки яростно сверкнули:
– Если ты не хочешь или не можешь, так и скажи!
– Я могу… Но надо принять душ.
– Ты намекаешь, что я грязная? От меня плохо пахнет? Или ты помешан на чистоте?
– Ты шелушишься, – жалобно прошептал Василий.
Ксения резким движением откинула прядь черных волос с уха молодого человека, застонала и влепила ему пощечину. Тот не попытался защититься.
– Скотина! – девушка хлопнула дверью, сбежала вниз по лестнице, уже на улице вызвала по телефону такси.
* * *
Василий позвонил на следующий день после полудня. Ксения нисколько не удивилась, услышав его голос, хотя телефонами они не обменивались.
– Я люблю тебя, – прошептал он в трубку. – Я влюбился вчера. В машине. У тебя такие дивные колени… Они так терпко шелушатся…
– Не мели ерунды.
– Я говорю правду. Мне все время хочется быть с тобой.
– Вчера вечером у тебя была такая возможность.
– Ты отказалась принимать душ…
Ксения скрипнула зубами.
– Что ты себе позволяешь, урод?
– Я не урод. Самый обычный жабрианец.
– Конечно, вы не считаете себя уродами. Скорее, вы суперсущества… Великие и мудрые… Только зачем тебе тогда я?
– Я уже сказал. Я тебя люблю.
– Может быть, дело вовсе и не во мне? А ты через меня подкапываешься к отцу? Он недавно говорил что-то о том, что вас пора прижать… Закрыть вашу миссию, вышвырнуть с Земли.
– Нет, мне нужна ты. Я все объясню. Лично. Можно?
– Приезжай, – сдалась Ксения. Она просто не могла противиться его голосу. – Только у меня нет ультразвукового душа.
– Думаю, теперь это неважно…
Поджидая жабрианца, Ксения то и дело выглядывала в большое окно и барабанила пальцами по подоконнику. Что с ней происходило? Она прогоняла парней за гораздо меньшие провинности. Высмеивала, унижала, третировала, если они имели глупость оставаться с ней. И уж никому не простила бы она столь бесцеремонное предложение принять душ. Что она, грязнуля, или дикарка? Правда, жабрианцы понимают под душем совсем не то, что люди… И они, в самом деле, стоят выше в развитии. Поэтому ее так и тянет к этому Василию, настоящее имя которого, наверное, и выговорить нельзя…
Обаятельность, совершенство, уверенность в себе так и сквозят в каждом его жесте. Интеллектуальный коэффициент жабрианца в полтора-два раза выше, чем у среднего человека. К тому же, они могут воздействовать на психику на уровне подсознания. За что их и хотят лишить лицензии на торговлю с землянами. Но важно ли это сейчас? Он нужен ей. И утверждает, что любит…
* * *
Василий сидел за кухонным столом и пил чай. На этот раз его роскошные волосы были собраны в хвост. Жабры отчетливо виднелись за ушами. Они были слегка покрасневшими. Еще бы – еще в прихожей он схватил руки Ксении и стал прижимать их к голове – словно бы нюхать жабрами. Лицо у него при этом было блаженное.
– Я на самом деле получил задание очаровать тебя, – признался он. – Но не смог пересилить отвращения. А потом понял, что люблю.
– Урод. У тебя хватает наглости такое говорить, – Ксения усмехнулась. – Ты просто чокнутый!
– Да, с твоей точки зрения я и правда в чем-то урод… И сумасшедший… Мне не хватало женской ласки. Но это все причины. А следствие – то, что я влюбился. Сейчас имеет значение только это. Понимаешь?
– Полагаешь, я тебя прощу?
– Ты меня уже простила – иначе никогда не позвала бы к себе. Думаю, ты тоже меня любишь. Любовь гораздо более рациональна, чем кажется вам. Просто вы еще не разобрались в ней как следует.
Ксения уже замахнулась для удара, но опустила руку.
– Объясни. Почему вам так противны люди? И что изменилось в отношении меня?
– Ты ошибаешься, люди нам совершенно не противны. У нас общие предки, люди – такие же, как мы, многие из них даже красивее, здоровее. Женщины очень привлекательны. Только вы шелушитесь. И не замечаете этого.
– Я слышала, что это имеет для вас значение, но никогда не понимала, почему. Считала безобидным пунктиком инопланетной психологии. У вас что, сдвиг на гигиене? Вы боитесь заразы?
– Не в этом дело. Попробую объяснить – хотя аналогия не совсем верная… Представь, что ты попала в Париж семнадцатого века. В Версаль. Вокруг – блистательный двор какого-то из Людовиков. Обворожительные, прекрасно одетые дамы, решительные, смелые, галантные кавалеры. Великолепные интерьеры, фонтаны, блеск золота и драгоценных камней…
– Просто сказка.
– Да, сказка, если смотреть ее в кино. А в реальности – дамы не мылись по полгода, кавалеры мочатся на шторы, чтобы не выходить по нужде во двор. Ты представляешь, какой там стоял запах? Как пахло от них – таких блистательных и красивых?
Ксения передернулась.
– На самом деле – ничего страшного, если к этому привыкнуть. Да, на лугу лучше, и сено пахнет приятнее. Но запахи пота и испражнений – естественные. Эскимосы тоже никогда не моются, и не скажут, что от человека воняет – если только он не болен. А мы, привыкшие принимать душ два раза в день, невольно бы сморщили нос, входя в их ярангу.
– Так от меня все же воняет?
– Нет, пахнешь ты прекрасно… Но ты шелушишься. Отлетают кусочки кожи, фрагменты волос, капельки пота. А наши жабры очень чувствительны. В этих кусочках кожи нет ничего плохого, но я воспринимаю их примерно так же, как ты – запах пота. Представь человека, который не смывал пот две недели, интенсивно работая. У него естественный запах. Никакой опасности в гигиеническом плане он не несет. Но приятным этот запах не назовешь. Так же и шелушение…
– Поехали к тебе. Я хочу в ультразвуковой душ, – бросила Ксения. – И прикрой свои жабры.
– Но мне приятно тебя шелушить.
– Это извращение. Ты сам себе станешь противен через некоторое время. Поехали, я не вижу ничего плохого в том, чтобы скинуть ороговевшую кожу и кусочки волос. Наверное, мы и правда чего-то не понимаем в этой жизни… Но у нас ведь нет жабр. И этого вашего шестого чувства нет.
– Да, вы не умеете шелушить. А иногда это так восхитительно… – Василий опять потянулся к ее голому колену.
* * *
– Быстро ты приручил эту дикарку, – хмыкнул Павел Ст Вмн Ых, разглядывая подписанный председателем лицензионной палаты документ. Он давал право вести торговлю на Земле через представителей, которые, в свою очередь, обязывались принимать ультразвуковой душ без заявлений о том, что такое требование является ущемлением их прав.
Василий покачал головой.
– Я на самом деле полюбил ее.
– Да ладно, расслабься. Контракт подписан на два года, кто будет председателем палаты к тому времени – неизвестно. Считай задание выполненным и отправляйся к Анечке. Может быть, она станет к тебе благосклоннее.
– Только скажи, что Ксения плохо шелушится – и я засуну тебя в пескоструйный аппарат.
– А она хорошо шелушится? – заинтересованно поинтересовался Павел. – Что ж, я рад за тебя, мой друг…
– И она каждый день принимает ультразвуковой душ.
– Да я ведь не спорю с тобой. Еще неделю назад мне приходилось убеждать тебя, что она – воплощение совершенства. Видел по оперативной трансляции, как она выкручивает тебе уши. Решительная девушка.
Василий круто развернулся и вышел из каюты. Павел посмотрел ему вслед с доброй улыбкой – работу свою молодой агент делал очень хорошо, порой даже слишком, с душой – и ласково прошептал:
– Извращенец…
#76

 Отправлено 27 ноября 2010 - 08:53
Отправлено 27 ноября 2010 - 08:53

Впервые в жизни. У всех моих подруг они уже были, а я как-то обходилась. Нет, конечно, знакомые мужчины у меня в разное время были, но все они существовали вне пределов моей квартиры, появляясь в ней лишь эпизодически. Но вот однажды…
Утром я вошла в туалет и увидела, что сиденье унитаза поднято. Так началась новая эра моей жизни. В доме поселился мужчина. Хотя сначала я думала, он не приживется: они же капризные...
Первым делом он заявил, что раз уж мы решили жить вместе, то пользоваться презервативом теперь просто негуманно. Правда, не уточнил — по отношению к кому. Напрашивались три варианта. Любимого, похоже, интересовал только он один. Меня это не устраивало. Я обвинила его в эгоизме и беспечности. Он посоветовал купить вибратор. Я напомнила, что мы живем в эпоху СПИДа. Он сказал, что он не такой. Я покрутила пальцем у виска. Он запихнул галстуки в чемодан. Я криво улыбнулась. Он хлопнул дверью. Я перекрасила волосы. Он открыл своим ключом.
- Едва успел до закрытия аптеки. Вот, — протянул тоненькую упаковку. — А разве ты была рыжей?..
Итак, мы стали жить вместе. Возвращаясь вечером домой, я уже не пугалась, если видела в собственных окнах свет. И уже не говорила в телефонную трубку: «Вы не туда попали», если кто-то произносил его имя. Ко всему прочему, моя подушка пахла его одеколоном. Возлюбленный храпел ночью, тянул на себя одеяло — одеяло падало на пол. Ни себе, ни людям… Он читал в туалете Маринину, а потом кричал в щель:
- Бумагу!
- Вырви первую главу! И чтоб я этой дряни больше в доме не видела!..
А в гостях он цитировал Канта. И ежедневно наступал коту на хвост и ежедневно уверял, что это нечаянно. Учил меня ориентироваться по звездам, отваживал от дома моих подруг. Зачем-то подарил мне надувную лодку, робел перед моей мамой:
- Светлана Алексеевна...
- Светлана Александровна, — в который раз хмурилась мама.
Он будил меня по ночам поцелуями, умываясь, фыркал. Забрызгивал зеркало в ванной зубной пастой, зимой дарил мне клубнику. Короче, он был неотразим.
В моем доме появились музыкальный центр и гантели. Музыка звучала с утра до вечера. Гантели бездействовали. Пылесося ковер, мне приходилось каждый раз переставлять их с места на место. Гости постоянно натыкались на них. Соседка Катя сказала, что «эти железяки» портят эстетический вид гостиной. Не выдержав, я предложила убрать этот фаллический символ в кладовку. Любимый воспылал праведным гневом. Напомнил, что здоровый дух бывает только в здоровом теле. И вообще он, оказывается, уже присмотрел подходящую штангу в «Спортмастере».
- Бицепс надо прокачивать… — доверительно сообщил он мне.
Но зато теперь у меня под рукой всегда была пена для бритья. К тому же я могла полноправно участвовать в разговорах подруг на тему «А мой-то вчера»:
а) до утра играл в компьютерные игры
б) целый день пролежал под машиной
в) съел недельный запас котлет
г) разбил чашку и заменил перегоревшую лампочку
д) опять курил в туалете
е) сказал, что сериалы отупляют
ж) весь вечер смотрел бокс
з) спрятал мою телефонную книжку
и)… сволочь и кровопийца.
Короче говоря, совместное проживание с мужчиной приносило массу открытий. Приятных и не очень.
Открытие первое: он — есть.
Открытие второе: он постоянно хотел есть!
Кофе и мандаринка на завтрак его не устраивали. В доме появились ненавидимые мною прежде продукты: сливочное масло, сало, сахар, водка, макароны. Рейтинг майонеза взлетел до небес. В женских журналах я стала обращать внимание на кулинарные рецепты. А вечный вопрос «Что приготовить на ужин?» терзал меня почище гамлетовского.
Я зверела. Я безостановочно что-то жарила, варила, терла и пробовала. Я поправилась на три кило. Любимый был сыт, весел и всегда готов к приему пищи. Когда он с фразой «У нас есть что-нибудь вкусненькое?» лез в холодильник через пять минут после обеда, мне хотелось дать ему сзади пинка! И захлопнуть дверцу.
Я стала мечтать, чтобы на прилавках магазинов появились пакеты с надписью: «Еда мужская.10 кг». Купила — и день свободна...
Открытие третье: он прятал носки.
Надеюсь, что не от меня. То, что он их носил, конечно, не было для меня тайной. Свет моих очей никогда не обматывал ноги портянками и не ходил босиком. Он пользовался текстильно-чулочными благами цивилизации, но… Придя с работы, он первым делом выискивал места поукромней и там, как бурундучок заначку, прятал их, предварительно свернув в форме компактных загогулинок. И никакие внушения не могли его заставить относить эти «улитки» хотя бы в ванную. С маниакальным упорством мой мужчина парковал носки под диваном, под креслом и, похоже, готов был отдирать плинтуса, чтобы там схоронить свои сокровища.
Открытие четвертое: он составлял завещание каждый раз, когда у него болел зуб или начинался насморк. Он стонал и охал, как раненый бизон. Он задыхался при слове «поликлиника» и взывал к моему милосердию. Требовал добить его, чтобы избавить от нечеловеческих страданий. Держа меня за руку, он благородно советовал перед продажей покрасить старенький Опель. И, как настоящий мужчина, сдерживая рыдания на смертном одре, прощался с милыми его сердцу вещами: музыкальными дисками, мобильным телефоном и газетой Спорт-экспресс.
Открытие пятое: он умел молчать.
Он мог целый вечер просидеть перед экраном телевизора и не проронить при этом ни слова. Дай ему волю — он, знающий два языка и имеющий высшее образование, ограничил бы общение со мной тремя фразами: «Доброе утро, дорогая», «Что у нас на ужин, любимая?» и «Иди ко мне...»
Справедливости ради надо отметить, что его общение с мамой или телефонные разговоры с приятелями тоже не отличались особым красноречием. А его взаимоотношения с лучшим другом строились на совместном просмотре футбольных матчей и произнесении емких комментариев:
- Пас! Пас, я сказал!.. Ну-у говнюк!.. Вить, дай пива...
Открытие шестое: умея молчать, он не выносил тишины.
Этого парадокса я так и не разгадала. Мало того, что к музыкальному центру он прикасался чаще, чем ко мне, — он практически никогда не отходил от телевизора, переключая каналы со скоростью света. От начала до конца мой любимый смотрел только новости и спортивные передачи. Все остальное время он щелкал пультом. Картинки в телевизоре мелькали, как в жутком калейдоскопе. У меня кружилась голова. И упаси Господи стать на линию между ним и телевизором. Тут же следовал резкий дипломатический демарш:
- Уйди с экрана!
Открытие седьмое: он ревностно охранял свою территорию.
Его владениями считались: место за столом — раз и любимое кресло — два. Даже гости не могли сесть на его табуретку в кухне. А бедный кот пулей вылетал из мягкого кресла, едва заслышав знакомую тяжелую поступь. Я границ не нарушала. Женская интуиция подсказывала мне, что лучше не посягать на мужской трон, его священную кружку и державные тапочки. Зато можно спрятать ненавистные гантели. Или даже сдать их в металлолом — мой драгоценный спортсмен пропажу вряд ли заметит.
Открытие восьмое: надзор и контроль.
- Ты с кем это говорила по телефону?.. Кто этот очкарик на фотографии?.. Ты где была с четырех до пяти?.. Откуда у тебя эти сережки?..
- С подругой. Мой брат. В парикмахерской. Ты подарил...
Открытие девятое: я уже не могла часами лежать в душистой ванне.
Мой девяностокилограммовый зайчик пытался прорваться в помещение. То ему срочно нужна была зубная щетка. То возникала экстренная необходимость осмотреть уже два месяца текущий кран. То его интересовало, поместится ли он рядом со мной, и сколько воды вытеснят при этом наши тела по закону Архимеда. То ему просто было скучно одному, и он поскуливал под дверью, взывая к моей совести:
- Я страдаю от отсутствия общения!
Но стоило только мне выйти — страдалец тут же удовлетворенно возвращался к своему креслу.
- Эй, а как же закон Архимеда? — спрашивала я.
- Душ приму, — сообщал милый и утыкался носом в газету.
Открытие десятое: у него росла щетина.
Росла она, конечно, и до нашего, скажем старомодно, сожительства. Но раньше на свидания мой герой приходил гладко выбритым, а теперь я наблюдала его почти круглосуточно… У меня начала шелушиться кожа на лице.
Открытие одиннадцатое: он не помнил наших праздничных дат!!!
Совсем. Амнезия. Выборочные провалы в памяти. Он помнил день взятия Бастилии, день техосмотра и день собственного ухода в армию, но дата моего рождения никак не могла закрепиться ни в одном из его полушарий. Впрочем, он пропустил бы даже Новый год, если бы не повсеместный ажиотаж.
- На улицах появились тетки с елками. Пора закупать шампанское, делал он глубокомысленные выводы.
Открытие двенадцатое: он оказался страшно непрактичен.
Он не умел планировать наш бюджет. Уйдя за едой, приносил пять бутылок пива, пакетик чипсов и стаканчик мороженого. Стеснялся брать сдачу. На рынке не умел торговаться. Покупал все, что впаривали ему ушлые бабуси. А однажды вместо картошки принес розы. Я только вздохнула.
- Я тебя люблю, — сказал он, протягивая цветы.
Открытие двенадцатое с половиной: он меня любит...
В общем, жизнь с мужчиной — это как игра в шахматы. Непрерывный блиц с не вполне ясными правилами.
- Так конь не ходит
- Глупенькая… А как, по-твоему, ходит конь?
- Буквой «Гэ»...
- Это пусть сосед буквой «Гэ» ходит. А я пойду вот так...
- С каких это пор новые правила?
- С прошлой минуты… Я сказал. Ходи, любимая…
Сообщение изменено: Izverg (27 ноября 2010 - 08:55)
#78

 Отправлено 11 декабря 2010 - 11:54
Отправлено 11 декабря 2010 - 11:54

До и после
Август выдался удивительно мягким и благостным. Свирепых сибирских комаров, которые обычно как раз в этот месяц разворачивали последнее решающее наступление на человечество, на сей раз унесло куда–то игрой циклонов.
Пару недель назад случилось, правда, небольшое землетрясение, но по сравнению с прошлогодним августовским пеклом и лесными пожарами, которые чуть не пожрали и Борисовку, и соседнее Грязево, и сам райцентр — Мантурово, толчки казались неправдоподобно легкой расплатой. Словно ждали червонец строгого режима, а отделались тремя годами условно.
Главной неприятностью было то, что в телевизоре теперь пропал сигнал.
— Как–то там Андрюша… – ковыряясь резиновым наконечником клюки в земле, переживала Ангелина Степановна.
С тех пор, как от Андрюши ничего не было больше слышно, вечерние посиделки было решено перенести во двор Нины Прокофьевны, благо комары не докучали.
— Нехорошо ему на голове навертели, — покачала головой Анна Павловна. – Растрепанный такой, словно бошку не мыл неделю, да еще и чумазый стал. Раньше мне он больше нравился. Опрятный такой был, а теперь тьфу! Хоть бы и не видала его век.
— Зато поправился хоть немного. А то кому он такой тощий нужен? – почти ласково улыбнулась Нина Прокофьевна.
— А в последний–то раз чего рассказывал… Про мальчонку этого, который своего товарища случайно из ружья отцовского застрелил! А потом отцу парнишки убитого позвонил, и тому говорит: на, извиняйся, если хочешь. И все! Дальше, говорит, в следующий раз все доскажем. И на тебе! – разорялась Ангелина Степановна.
— Ничего, Анатолий из райцентра вот вернется, станет понятно, что там у них, — уверенно заявила Нина Прокофьевна.
Телевизоров в деревне было всего два.
Один – старый, советского производства, заботливо накрытый вязаной из белой нити кружевной скатертью, стоял на почетном месте в зале у Анны Павловны. Он играл роль алтаря под иконостасом пожелтевших овальных фотокарточек с обветренными временем лицами ее покойного мужа, родителей и глянцевыми прямоугольничками с розовыми физиономиями внуков, которые жили с родителями в райцентре.
Второй – с Cовершенно Плоским Экраном и надписью Made in Indonesia – был привезен Нине Прокофьевне ее дочерью из города прошлым летом.
«Горизонт» Анны Павловны был всегда мутен и пуст, так как безнадежно поломался тринадцать лет назад и не был выброшен только из пенсионерской солидарности. Плод же японского индустриального неоколониализма в странах Юго–Восточной Азии работал исправно, и каждый день Нина Прокофьевна торжественно расчехляла его, приподнимая паутину стираных кружев и осторожно нажимала кнопку на пульте.
Зимой паломничество к ней соседок начиналось еще утром: по главному каналу страны объясняли, как правильно дозировать мочу, чтобы избавиться от остеохондроза и убедительно показывали, как побороть метастазы при помощи сырого мяса. Летом с утра надо было спешить на огород, зато вечером можно было поохать над невероятными историями человеческих страстей, сочиненными за косяком сценаристами второго Малахова.
Новости в деревне глядел только Анатолий, остальные никаким политикам не верили, да не очень–то и интересовались московскими информационными абстракциями. Раз в год, когда президент, по слухам, обещал поднять пенсию, случалось, включали программу «Время» — чтобы удостовериться. Чтобы не попасть впросак перед стервозной почтальоншей, которая раз в два месяца привозила из райцентра конверты с редкими купюрами, вихляя восьмерками велосипеда «Орленок» по выбоинам единственной дороги.
Но внеочередное повышение уже свалилось под мартовские выборы, и в августе от Москвы ничего хорошего не ждали даже самые ярые оптимистки. Нет новостей – да и шут с ними. От них сплошные расстройства, а про политику уж всегда соврут, это в деревне твердо знали еще с тех пор, когда телевизор «Горизонт» только–только вылупился из картонной коробки с надписью «Не кантовать».
— Да вон же он едет! – привстала со скамьи дальнозоркая Анна Павловна. – Анатолий! Толя!
Гонец, отправленный за истиной в райцентр, смотрел вперед несмело и руль держал неуверенно. Сначала хотел прислонить свой зловонный мопед к ограде, потом передумал и сообщил от калитки, не приближаясь на опасную дистанцию:
— Вышка повалилась ретрансляторная! Говорят, скоро подымут. Когда трясло, она и вылетела с корнем. До тех пор – никакого телевизора!
— Это надо же! – всплеснула руками Анна Павловна.
— Заходи, Толя, что стоишь, — упершись руками в поясницу, Нина Прокофьевна трудно поднялась на ноги. – У меня пирожки, для внуков пекла.
— Спасибо… – Анатолий дыхнул в кулак, закашлялся и замотал головой. – Не голодный! В Мантурове накормили.
— К своей что ли ездил? – прищурилась Ангелина Степановна, не замечая укоризненного взгляда Анны Павловны.
— Угу, — Анатолий неопределенно качнул головой и на всякий случай крутанул ручку газа, намекая, что разговор затягивается, и что ему пора бы ехать.
— А может, мерзавчик налить, а, Толь? – хозяйка дома, кряхтя, двинулась к шкафу с пыльными стограммовыми гранеными стаканчиками.
Тот дрогнул, но устоял. Будь сейчас утро, он вряд ли был так несгибаем. Но время легального опохмела миновало, и перед мысленным взором Анатолия маячил костлявый призрак запоя. Именно железный принцип: больше трех дней подряд не пить – позволял ему изящно балансировать на грани алкоголизма все эти годы, пока его одноклассники и сослуживцы самозабвенно отдавались белой горячке.
Нина Прокофьевна пожала полными плечами и уселась обратно. Анатолий взял под козырек и отчалил, оставляя за собой рваные облачка сладковатой бензиновой гари. Дочь с зятем и оба внука – городские, приехавшие к бабке на каникулы – ушли купаться на речку и вернуться должны были только к ужину. Пирогов Нина Прокофьевна успела напечь с утра, картошку ставить на огонь было еще рано: оставалось время для умственной деятельности.
— Все врет, — высказалась она.
— Про кралю свою? – встрепенулась задремавшая Ангелина Степановна.
— Вообще все, — категорично заявила Нина Прокофьевна. – Не был он в Мантурове.
— А где же он был? На мотоцикле ведь ездил.
— Вчера дождь шел? Шел. Там от Грязева до Мантурова дорога – колдобина на колдобине, после дождя не лужи, а болота настоящие. А мотоцикл чистый у сукина сына, — разоблачила авантюриста Нина Прокофьевна. – Значит, дальше Грязева не уехал.
— Да что ему в Грязеве сдалось? – Ангелина Степановна пригладила шерстяную юбку. – В Мантурове у него девка хотя бы, учительница тамошняя.
— Поругались они, — авторитетно возразила Анна Павловна. – Как ты не знаешь?
— Да когда же они успели? На той неделе же ездил к ней…
— Ничего не ездил. Он уж у ней месяц не был! Скажет – к Наташе, а сам – в Грязево.
— А в Грязеве–то что?
— Дружок там его, Витька рыжий. На лесопилке работает. Сидел который.
— Да что я, Витьку не знаю? — уличенная в некомпетентности, Анна Павловна попыталась восстановить позиции. – Кто мне дрова–то зимой привозил?
— С Витькой и пил. Точно, — с прокурорской убежденностью заключила Нина Прокофьевна.
— Тебе Танька, что ли, доносит? – нахмурилась Анна Павловна.
У хозяйки в рукаве имелся козырь: почтальонша, всех бабок открыто презиравшая, в проницательной и подозрительной Нине Прокофьевне видела себе равного и иногда делилась с ней сплетнями о грязевской и мантуровской жизни. Плохо только то было, что в этом году деревенские ни на что не подписывались, а пенсия, как ни старались партия и правительство наладить выплаты, до Борисовки доходила не чаще, чем раз в два месяца. Июньская же задерживалась и того больше, а об августовской можно было вообще не мечтать.
— Лучше бы она другого чего донесла, — открестилась от информатора Нина Прокофьевна.
— Да уж… На два с половиной месяца отстают. Макароны–то на что брать будем?
По совести, на четыре тысячи пенсионных рублей в Борисовке покупать было нечего. Сложенное из цементных белых кирпичей сельпо находилось в Грязеве, и крашенные зеленой масляной краской полки были поровну заставлены скверной водкой, батареями сайры в собственном соку, кондовыми коробками с рафинадом и расфасованными по бумажным пакетам крупами. Водка особым спросом не пользовалась, а сахар, напротив, уходил влет, поскольку в каждом втором доме стоял самогонный аппарат. Все остальное можно было вырастить на своем огороде или выменять у соседей. У Нины Прокофьевны были куры и фруктовый сад, у Анны Павловны – подающие надежду поросята и двадцать соток огорода, у Ангелины Степановны – отелившаяся недавно корова и парники с помидорами.
Натренированные годами реформ, жители Борисовки, Грязева и любого другого российского поселка могли с легкостью перейти в автономный от государства режим, изо всех слабостей позволяя себе лишь традиционную русскую ностальгию по сервелату.
Нина Прокофьевна половину повышенной своей пенсии аккуратно отделяла и раз в квартал отправляла с мантуровского почтамта детям в город. Ангелина Степановна закупала на все гречку и сахар, потому что уже отпраздновала семьдесят пятый день рождения, и за это время была не единожды учена горьким опытом. Анна Павловна откладывала сбережения в конверт за иконкой Николая Чудотворца, которая висела у нее в спальне, и дрожала от каждого натужного дыхания своей старой избы, опасаясь грабителей. И для всех троих нерегулярная подачка была скорее знаком причастности их деревни к некому необъятному государственному целому.
Макаронный вопрос, изначально риторический, повис в воздухе. Лето выдалось хорошим, в парниках разрослись настоящие огуречно–патисонные джунгли, и фаланги начищенных трехлитровых банок ждали сигнала к выступлению: зима не будет голодной.
Мазохистическая природа русской женщины располагает ее говорить не о том, что у нее хорошо, а о том, что не складывается.
— Потоскливо без Андрюши–то, — вернулась к своему любимцу Ангелина Степановна. – Когда теперь вернут?
— Как нам теперь знать, — развела руками Нина Прокофьевна. – Сукин сын обманул, никуда не ездил. Теперь только если зятя попрошу прокатиться узнать… Да захочет ли он по такой дороге? И так уж матерился…
Конечно, корейские автоконструкторы не могли предвидеть суровых условий, в которых будет эксплуатироваться их детище. Оно, в общем–то, неплохо держалось, учитывая, что по корейским понятиям, за Мантуровым дороги не было вообще. Но зять Нины Прокофьевны, взявший под это дело потребительский кредит, не намерен был ставить на новом автомобиле бесчеловечные эксперименты. Большим одолжением по отношению к его супруге было просто согласиться ехать в эту отчаянную глушь на машине.
Он, как и все остальные обитатели Борисовки, в первые дни переживал телевизионную ломку, механически и обреченно тыкая вечер за вечером в кнопки пульта якобы для тещи купленного им телевизора. Лазил даже на крышу, исследовать засиженную воронами антенну. Тщетно: Совершенно Плоский Экран показывал лишь эфирную пургу, и приключения сотрудников убойного отдела, которых до душевного зуда не хватало первую неделю, стали постепенно забываться.
Взвесив все за и против, ехать в Мантурово и проводить там расследование обстоятельст исчезновения Малахова и сериальных кукол зять отказался. На третью неделю по Андрюше скучала уже только сентиментальная Ангелина Степановна. На четвертую, когда родне Нины Прокофьевны пора было уже грузить машину и отправляться обратно в город, из–за холма показался ездок на дребезжащем старом велосипеде.
— Пенсия, — разгибаясь и отставляя в борозду жестяную лейку, предположила Анна Павловна.
— Война! – заголосила издалека взмыленная почтальонша.
* * *
Вместо привычных уже цветных «Аргументов» в ее сумке валялись плохо отпечатанные фронтовые сводки. Хотя фронтов, собственно, никаких не было, да и война уже три недели как закончилась. И, сколько ни читали они мажущиеся свинцовой краской страницы, никто из жителей Борисовки не мог понять, как залп китайских крылатых ракет по Тайваню мог привести к отправке американских МБР в Пекин, что было неверно расценено в одинцовском бункере РВСН и вызвало ответный удар по США, после чего…
Землетрясение месячной давности оказалось отголоском чудовищных взрывов, в одночасье обративших в пыль и пепел все крупные европейские, американские и азиатские города. Все случилось настолько стремительно, что ни правительства, ни военные командования не успели эвакуироваться. Государств, которых задел атомный молох, уже почти месяц больше не существовало. О Грязеве и тем более о Борисовке в райцентре вспомнили только теперь.
Листок прошел по рукам и, обескровленный, упал на скамейку. Люди растерянно смотрели друг на друга, пытаясь найти нужные слова: опровергнуть, поверить, утешить. В голову отчего–то лезли мысли совсем неуместные…
— Андрюша–то как же… – прикрывала рот заскорузлой ладонью Ангелина Степановна.
— Это что же, пенсии–то не будет теперь? – попыталась осознать Анна Павловна.
— Кредит можно не возвращать, — почти неслышно добавил зять.
— Да как же мы жить–то теперь будем? – запричитала Ангелина Степановна.
В повисшей тишине слышно было, как побрякивал колокольчик на шее у ее коровы и альтом звенел первый адаптировавшийся к новой жизни комар. А может быть, это наконец долетел до Борисовки отголосок того звука, когда лопнули невидимые струны, протянувшиеся через всю огромную страну из Останкина, и удерживавшие ее за счет единства мыслей и переживаний мало чем похожих друг на друга граждан.
— Да так же и будем, как жили, — вдруг объявила Нина Прокофьевна. – Что изменилось–то?
#79

 Отправлено 13 декабря 2010 - 04:01
Отправлено 13 декабря 2010 - 04:01

РЭЙ БРЕДБЕРИ
РЖАВЧИНА
— Садитесь, молодой человек, — сказал полковник.
— Благодарю вас. — Вошедший сел.
— Я слыхал о вас кое-что, — заговорил дружеским тоном полковник. — В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете и что вам ничего не удается. Я слышу это уже несколько месяцев и теперь решил поговоритьс вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе? Не надоело ли вам работать в канцелярии? Может быть, вам хочется на фронт?
— Кажется, нет, — ответил молодой сержант.
— Так чего вы, собственно, хотите?
Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки.
— Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину, что бактерии в оболочках бомб стали безвредными, что танки провалились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание.
— Это естественное желание каждого из вас, — произнес полковник. — Но сейчас оставьте эти идеалистические разговоры и скажите нам, куда мы должны вас послать. Можете выбрать западный или северный округ. — Он постучал пальцем по карте, разложенной на столе.
Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы:
— Что делали бы вы, начальство, что делали бы мы, солдаты, что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись и пушки стали ненужными?
Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся.
— Это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. По-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия, и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали бы, разыгралось бы множество трагедий.
— А потом? — спросил сержант. — Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново… Что было бы тогда?
— Все принялись бы опять поскорее вооружаться.
— А если бы им можно было в этом помешать?
— Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками со стальными вкладками; отнимите у них перчатки, и они пустяг в ход ногти, и зубы, и ноги. Запретите им и это, и они — ануть плевать друг в друга. А если вырезать им яички, заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов и все мухи и комары осыплются на землю.
— Значит, вы думаеге, что в этом вообще не было бы смысла? — продолжал сержант.
— Конечно, не было бы! Ведь это все равно, что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока.
Молодой человек покачал головой.
— Вы просто хотите убедить себя и меня, ведь работа у вас спокойная и удобная.
— Пусть даже это на девяносто процентов цинизм и только десять — разумная оценка положения. Бросьте вы свою ржавчину и забудьте о ней.
Сержант быстро поднял голову.
— Откуда вы знаете, что она у меня есть?
— Что у вас есть?
— Ну, эта ржавчина.
— Ржавчина, вы говорите?
— Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, мог бы начать сегодня же.
Полковник засмеялся:
— Я думаю, вы шутите?
— Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию… Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину: водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали "нервный шок". И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах.
Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк.
— Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не утверждаю, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима.
— Вы думаете, я обманываю вас, — произнес сержант. — Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечном коробке. Радиус его действия — девятьсот миль. Я мог бы настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не мегдш бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы зюеую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, ках мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин, никто не думал, что атом может быть губительным оружием, и многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас.
— Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу, — подчеркнуто произнес полковник.
Сержант встал.
— Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?
— Нет, пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюз.
— Я уже решил, — сказал молодой человек. — Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени.
— Послушайте, сержант, не принимайте этого так близко вяердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит.
— Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте. — Сержант открыл дверь канцелярии и вышел.
Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности. Потом вздохнул и провел ладонью по лицу.
Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку.
— Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело, почему он так ведет себя. Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть, у него странные иллюзии. Да-да, неприятно. По-моему, сказались шестнадцать лет войны.
Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой.
— Минутку, я запишу… — Он поискал авторучку. — Подождите у телефона, пожалуйста. Я ищу кое-что…
Он ощупал карманы.
— Ручка только что была тут. Подождите…
Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высылалось немного желтовато-красной ржавчины.
Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку.
— Мэтьюз, — сказал он, — положите трубку. — Он услышал щелчок и набрал другой номер. — Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете: Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да… убейте его… вы слышите?
— Но… простите… — возразил удивленный голос на другом конце провода. — Я не могу… просто не могу!
— Что вы хотите сказать, черт побери? Как так не можете?
— Потому что… — голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.
— Внимание, к оружию!
— Я никого не смогу застрелить, — ответил часовой.
Полковник тяжело сел.
Он ничего не видел и не слышал, но знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медлеийо погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в ямы — именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.
— Сэр… — заговорил часовой, видевший все это. — Клянусь вам…
— Слушайте, слушайте меня! — закричал полковник. — Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас! — и бросил трубку.
По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Полковник с проклятием отскочил от стола.
Пробегая по канцелярии, он схватил стул. "Деревянный, — подумалось ему, — старое доброе дерево, старый добрый бук". Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула по руке.
— Годится, черт побери!
С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.
Сообщение изменено: BadBwoy (13 декабря 2010 - 04:02)
#80

 Отправлено 14 декабря 2010 - 07:09
Отправлено 14 декабря 2010 - 07:09

На одном из симпозиумов встретились четыре лингвиста: англичанин, немец, итальянец и русский. Речь зашла о языках. Начали спорить, а чей язык красивее, лучше, богаче, и какому языку принадлежит будущее?
Англичанин сказал: «Англия – страна великих завоевателей, мореплавателей и путешественников, которые разнесли славу её языка по всем уголкам всего мира. Английский язык – язык Шекспира, Диккенса, Байрона – несомненно, лучший язык в мире».
«Ничего подобного», — заявил немец, — «Наш язык – язык науки и физики, медицины и техники. Язык Канта и Гегеля, язык, на котором написано лучшее произведение мировой поэзии – «Фауст» Гёте».Опубликовано ruslife.org.ua
«Вы оба неправы», - вступил в спор итальянец, — «Подумайте, весь мир, всё человечество любит музыку, песни, романсы, оперы! На каком языке звучат лучшие любовные романсы и гениальные оперы? На языке солнечной Италии»!Опубликовано ruslife.org.ua
Русский долго молчал, скромно слушал и, наконец, промолвил: «Конечно, я мог также, как каждый из вас, сказать, что русский язык – язык Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова – превосходит все языки мира. Но я не пойду по вашему пути. Скажите, могли бы вы на своих языках составить небольшой рассказ с завязкой, с последовательным развитием сюжета, чтобы при этом все слова рассказа начинались с одной и той же буквы?»
Это очень озадачило собеседников и все трое заявили: «Нет, на наших языках это невозможно». Тогда русский отвечает: «А вот на нашем языке это вполне возможно, и я сейчас это вам докажу. Назовите любую букву». Немец ответил: «Всё равно. Буква «П», например».
«Прекрасно, вот вам рассказ на эту букву», — ответил русский.
Пётр Петрович Петухов, поручик пятьдесят пятого Подольского пехотного полка, получил по почте письмо, полное приятных пожеланий. «Приезжайте, — писала прелестная Полина Павловна Перепёлкина, — поговорим, помечтаем, потанцуем, погуляем, посетим полузабытый, полузаросший пруд, порыбачим. Приезжайте, Пётр Петрович, поскорее погостить».
Петухову предложение понравилось. Прикинул: приеду. Прихватил полуистёртый полевой плащ, подумал: пригодится.
Поезд прибыл после полудня. Принял Петра Петровича почтеннейший папа Полины Павловны, Павел Пантелеймонович. «Пожалуйста, Пётр Петрович, присаживайтесь поудобнее», — проговорил папаша. Подошёл плешивенький племянник, представился: «Порфирий Платонович Поликарпов. Просим, просим».
Появилась прелестная Полина. Полные плечи прикрывал прозрачный персидский платок. Поговорили, пошутили, пригласили пообедать. Подали пельмени, плов, пикули, печёнку, паштет, пирожки, пирожное, пол-литра померанцевой. Плотно пообедали. Пётр Петрович почувствовал приятное пресыщение.
После приёма пищи, после плотного перекуса Полина Павловна пригласила Петра Петровича прогуляться по парку. Перед парком простирался полузабытый полузаросший пруд. Прокатились под парусами. После плавания по пруду пошли погулять по парку.
«Присядем», — предложила Полина Павловна. Присели. Полина Павловна придвинулась поближе. Посидели, помолчали. Прозвучал первый поцелуй. Пётр Петрович притомился, предложил полежать, подстелил полуистёртый полевой плащ, подумал: пригодился. Полежали, повалялись, повлюблялись. «Пётр Петрович – проказник, прохвост», — привычно проговорила Полина Павловна.
«Поженим, поженим!», — прошептал плешивенький племянник. «Поженим, поженим», — пробасил подошедший папаша. Пётр Петрович побледнел, пошатнулся, потом побежал прочь. Побежав, подумал: «Полина Петровна – прекрасная партия, полноте париться».
Перед Петром Петровичем промелькнула перспектива получить прекрасное поместье. Поспешил послать предложение. Полина Павловна приняла предложение, позже поженились. Приятели приходили поздравлять, приносили подарки. Передавая пакет, приговаривали: «Прекрасная пара».
Собеседники-лингвисты, услышав рассказ, вынуждены были признать, что русский язык – самый лучший и самый богатый язык в мире.
#81

 Отправлено 23 декабря 2010 - 11:19
Отправлено 23 декабря 2010 - 11:19

Как все устроилось, и не предполагал.
При таком обилии изображений - нечего смотреть.
При таком количестве радио - нечего слушать.
При таком количестве газет - нечего читать.
Вот и славно.
Проступают голоса людей, скрип шагов, вопли тронутых авто.
Внутри закрытых кранов куда-то течет вода.
Наверху вечно и мучительно сверлят.
Подо мной страдают от моих шагов.
Мусоропровод грохотом провожает кого-то вниз.
Эти скрипы, вопли, стуки и лай называются тишиной.
Мы шли к этой тишине через всю телеканализацию, катастрофы, вой «скорой», визг тормозов, стрельбу, сексуальные и больничные стоны.
Через аплодисменты парламента, предвещающие кровавое обострение.
Через нескончаемую войну на Кавказе, через падающие небоскребы, через предвыборные грязи, через десятки комментаторов, придающих однозначному многозначительность.
Через тоскливую сексуху, через чужую дебильную личную жизнь.
Отчего молчание кошки кажется остроумным.
И все это как бы по нашим заявкам.
И все это для какой-то нашей радости.
Мы прошли через унизительные игры «угадаешь букву-дам денег».
Мы видели чужую жадность, похоть, предательство.
Розыгрыши людей с участием настоящей милиции.
Попробуй тут не разыграйся.
Мы прошли через споры обо всем, кроме того, что нужно: как жить и как выжить.
Чужая ненависть к мужу и жене лезет в нашу кровать.
Политические обозреватели бессмысленно уязвляют всех.
Диким воплем заблудившегося перечисляют события недели, известные всем.
Только узнайте меня.
Запомните меня.
Я буду комментировать криком, воплем, подтрунивая, подхихикивая, подпевая, подвывая-только запомните меня.
Мы прошли через диспуты, глубина которых ограничивается дном кастрюли, а в концовке одна великая фраза: «Наше время истекло».
Это главный вывод всех дебатов.
Истекло их время.
Они говорили, говорили и, не попав на мысль, вывод, пожелание-на то, что ждешь от нормального человека, чтоб понять, ради чего он это затеял,-перешли к тому, ради чего их время кончилось-на перхоть, прокладки, трупы и пистолеты.
И как будто оно и не начиналось.
Что же я привязался все к тем же?
Да не к ним-к той жизни, что начинается после восемнадцати ноль-ноль, без искусства, без выдумки и без таланта.
В газетах, о которых нельзя сказать плохого слова, самое заметное-письма читателей.
Там жизнь, ум, лаконизм-наслаждение.
Газета, которой нечего сказать,-толще всех.
Заголовки в стихах, фамилиях и анекдотах.
Девицы задают вопросы звездам: как спали, что ели и о чем вы бы себя сами спросили, если бы я иссякла?
Нельзя критиковать радио, нельзя ругать газеты, и они дружно желтеют.
И впервые нам становится понятно, как в условиях конкуренции они становятся одинаковыми.
Нельзя умываться грязной водой.
Нельзя есть пережеванное.
Я не верю, что это по нашим просьбам.
Даже если это так, я не буду искать другую страну.
Я просто подожду.
Я все выключу и подожду.
Все займет свое место.
Тупой должен слушать тупого по специальному тупому радио.
И такое радио будет или уже есть.
Темный пусть хохочет на своем канале.
Озабоченный пусть мается ночами с пультом в руках вместо жены.
Кто ненавидит своего мужа-пусть ищет свой канал.
Остальных просят обождать.
Если меня не подводит интуиция-кроме секса, почесухи и политики что-то должно быть еще…
Даже что-то уже было.
Как это все называлось?
То ли талант.
То ли интеллект.
То ли порядочность.
То ли вкус.
Ведь и те, кто хохочет, чувствуют, что чего-то не хватает.
Как бы сформулировать, чтобы поняли все…
Или не стоит, если все…
К чему тогда стремиться?
Может, оставить что-то непонятное, там теорию относительности или чеховскую грусть и одного человека, чтобы побыть с ним. Чтоб посмотреть мир его глазами, послушать его ушами и прогуляться с его сердцем.
#82

 Отправлено 18 января 2011 - 12:42
Отправлено 18 января 2011 - 12:42


Стивен Кинг
После выпускного / Graduation Afternoon
(© Перевод. М. Клеветенко, 2010)
Дженис никак не удавалось подобрать верное определение месту, где жил Бадди. Для дома слишком роскошно, на поместье не тянет. Чего стоит одно название на въезде! "Огни гавани" - словно рыбный ресторанчик в Нью-Лондоне. Правда, до сих пор Дженис выкручивалась, обходясь нейтральным "к тебе": "Поехали к тебе, в теннис поиграем", "Заскочим к тебе, искупаемся".
А имечко, размышляла Дженис, наблюдая, как он пересекает лужайку в направлении бассейна. Кому понравится, что твоего бойфренда зовут Бадди? Но только обнаружив, что его настоящее имя Брюс, начинаешь понимать, как ты влипла.
С чувствами та же история. Дженис видела, как хочется Бадди услышать ее признание в день выпускного - подарок поценнее серебряного медальона, за который Дженис, стиснув зубы, выложила кругленькую сумму - но не могла себя пересилить. Всего-то и нужно сказать: "Я люблю тебя, Брюс", но в лучшем случае (и то не без зубовного скрежета) Дженис отважилась бы на: "Ты мне страшно нравишься, Бадди". Фразочка из музыкальной комедии.
- Ты правда не обиделась на нее? Не поэтому остаешься? - спросил он на прощание.
- Нет, просто хочу еще поиграть. И видом полюбоваться.
Полюбоваться и впрямь было на что. Дженис глядела и не могла наглядеться. С этой стороны дома был виден весь Нью-Йорк: игрушечные здания синели вдали, солнце вспыхивало в верхних окнах небоскребов. Дженис подумала, что ощущение полнейшей безмятежности город производит только на расстоянии. Ей был по душе этот обман.
- Бабушка всегда такая, - сказал Бадди. - Что на уме, то и на языке.
- Можешь не объяснять, - ответила Дженис.
Ей нравилась Брюсова бабушка, не желавшая скрывать свое высокомерие. Они - Хоупы, прибывшие в Коннектикут с пуританским "Христовым воинством", ни больше ни меньше. У таких снобизм в крови. А кто она? Дженис Гандлевски, которой еще предстоит через две недели отметить свой выпускной в Фэрхейвене, когда Бадди с тремя дружками отправятся штурмовать Аппалачи.
Дженис отвернулась к корзине с мячами - высокая и стройная, в джинсовых шортах, теннисных туфлях и эластичном топе. При каждом замахе она вытягивалась, привставая на цыпочки. Дженис была хорошенькой и знала себе цену, оценивая свою красоту со спокойной и уверенной деловитостью. Кроме того, она была умна и никогда об этом не забывала. Девушкам из Фэрхейвена редко удавалось подцепить парня из Академии. Самое большее, на что они могли рассчитывать, - банальный перепихон на зимнем или весеннем карнавале, а Дженис удалось, пусть ее фамилия и оканчивалась на "левски" - довесок, неотвязно таскавшийся за ней точно гремящая пустая жестянка, привязанная к бамперу семейного седана. Ее трофей звался Брюсом Хоупом или просто Бадди.
Выходя с Бадди из игровой комнаты в цокольном этаже -остальные еще играли, так и не сняв квадратных академических шапочек, - они случайно услышали замечание бабушки, сидевшей с гостями. У взрослых был свой праздник, а выпускникам предстояло оттянуться по полной вечером. Сначала в "Зажигай" на двести девятнадцатом шоссе - родители Джимми Фредерика сняли бар целиком с условием, что после вечеринки никто и ни при каких обстоятельствах не сядет за руль, затем на пляже - под полной луной, шелестящей волной, танцуй со мной, детка, под полной июньской луной...
- Дженис_не_разбери_что! - пронзительно гаркнула бабушка безжизненным голосом глухой старухи. - Очень мила, не правда ли, хотя и не нашего круга. Последняя Брюсова пассия.
В тоне безошибочно угадывалось: "Пусть мальчик перебесится".
Дженис пожала плечами и послала еще несколько ударов - гибкие ноги, красивый замах. Мощные и точные броски неизменно достигали цели - корзины у дальнего края площадки.
Именно их непохожесть и то, что они все время учились друг у друга, сблизило Дженис и Бадди. Нельзя не признать, что Бадди оказался смышленым учеником. Он с самого начала относился к ней с уважением - на взгляд Дженис, чрезмерным, - но она быстро вправила ему мозги. А если учесть извечную нехватку места и времени - как всегда в молодости, когда юные тела внезапно и остро сознают свои потребности, - Бадди определенно делал успехи.
- Мы старались, как могли, - произнесла Дженис вслух, решив наконец искупаться вместе с остальными.
Пусть Бадди в последний раз увидит ее раздетой. Он считал, что впереди у них целое лето, после которого он отправится в Принстон, а она - в Стейт, но Дженис думала иначе.
Она не сомневалась, что одна из целей его Аппалачских каникул - разлучить их безболезненно и бесповоротно. Наверняка замысел принадлежал не отцу Бадди - всегда бодрому и радушному крепышу - и не бабушке, странным образом сумевшей внушить ей симпатию, несмотря на прямоту - не нашего круга, последняя Брюсова пассия, - а улыбчивой и расчетливой матери, до смерти боявшейся (это было написано на ее гладком красивом лбу), что какая-то девица с консервной банкой в фамилии залетит, а потом женит на себе ее ненаглядного сынка.
- А вот этого мы никак не можем допустить, - пробормотала Дженис, впихивая корзину с мячами в сарай и опуская щеколду.
Марси, ее подружка, морща нос, насмешливо вопрошала, что Дженис вообще нашла в этом Бадди? Чем вы там занимались все выходные? Пили чай в саду? В поло играли?
Они действительно посетили пару матчей. Том Хоуп до сих пор играл, хотя, как признался ей Бадди, если отец не скинет вес, этот сезон мог стать для него последним. Еще они занимались любовью, иногда жарко и страстно. А порой Бадди удавалось ее рассмешить. Не так уж часто - Дженис подозревала, что надолго его не хватит, - но до сих пор он справлялся.
Худощавый, с тонким профилем, Бадди решительно отказывался демонстрировать замашки богатого зануды. Кроме того, он готов был носить ее на руках, и это поднимало Дженис в собственных глазах.
Впрочем, Дженис не сомневалась, что со временем порода возьмет свое. Годам к тридцати пяти Бадди остепенится и вместо того, чтобы лизать ее киску, с головой уйдет в нумизматику или реставрацию колониальных кресел-качалок - занятие, которому предавался его отец в этом... гм... каретном сарае.
Она медленно брела по широкому газону, поглядывая на игрушечные здания, дремлющие в синеватой дымке. От бассейна неслись крики и плеск. Мать, отец и бабушка Брюса на свой лад - чаепитием - отмечали событие с избранными друзьями под крышей. Настоящую вечеринку их детки закатят вечером. Всем хватит выпивки и таблеток, из громадных колонок будет пульсировать клубная музыка. Никакого старомодного кантри, на котором Дженис выросла. Не важно, она знает, где его искать.
На ее выпускной никто не станет устраивать грандиозных празднеств. Скорее всего друзья соберутся в ресторанчике тети Кей, а само торжество пройдет в куда менее славном своей историей и гораздо более скромно украшенном актовом зале. Однако Дженис верила, что ее ждет будущее, которое Бадди и не снилось. Она станет журналисткой. Начнет в университетской газете, а там посмотрим. Ступенька за ступенькой - лестница к успеху высока и крута. Впрочем, с ее внешностью и природной самоуверенностью рано или поздно она своего добьется. Нельзя сбрасывать со счетов удачу, и хотя Дженис хватало ума не слишком на нее полагаться, одно она знала твердо - удача любит дерзких и юных.
Дойдя до мощеного дворика, Дженис оглянулась. Обширная лужайка спускалась к двойному корту. Все вокруг выглядело дорого и внушительно - очень дорого и очень внушительно, но ведь Дженис было только восемнадцать. Когда-нибудь все это покажется ей мелким и заурядным, даже со скидкой на время. Эта вера заставляла ее мириться с Дженис-не-разбери-что, не нашего круга, и последней пассией Брюса. Или Бадди. С его тонким профилем и недолговечным умением смешить ее в самое неподходящее время.Уж он-то никогда не позволял себе унижать Дженис. Наверняка догадывался, что она этого не потерпит.Вместо того чтобы сразу пойти к бассейну и раздевалкам за домом, она еще раз оглянулась через левое плечо на далекий город, синеющий в предвечерней дымке. И даже успела подумать: "Когда-нибудь он станет моим домом", как над городом сверкнула чудовищных размеров молния, словно какое-то космическое божество испытало космических масштабов оргазм.
Джейн зажмурилась от яркости первой мощной вспышки. Небо на юге беззвучно полыхнуло алым. Бесформенное марево на миг поглотило здания, но они тут же проступили вновь, уже мертвые, видимые словно через искажающее стекло. Секунду, десятую долю секунды спустя они исчезли навсегда, а на их месте, как на тысяче кинопленок, бурлило яростное кровавое месиво.
И тишина, мертвая тишина вокруг.
Мать Брюса вышла во дворик и, прикрыв глаза ладонью, встала рядом. На ней было новое голубенькое платье. Локоть касался локтя Дженис. Они стояли и смотрели, как пожирает синеву кровавый клубящийся гриб. Над краем гриба поднялся дымок - бордовый в лучах уходящего солнца - и тут же втянулся внутрь. Алое сияние слепило глаза, но Дженис не отводила взгляда. По щекам текли горячие ручьи, а она упрямо смотрела на юг.
- Что это? - спросила мать Брюса. - Если это шутка, то весьма безвкусная...
- Это бомба, - ответила Дженис и не узнала собственного голоса, пришедшего словно из другой жизни, с живых пастбищ у Хартфорда.
Алый гриб пузырился черными волдырями, постоянно менявшими его жуткие очертания: вот кот, вот собака, а вот Бобо - адский клоун гримасничает над тем, что когда-то было Нью-Йорком, а теперь стало плавильным горном.
- Ядерная бомба. И очень мощная, не какая-нибудь убогая карманная моделька...
Шлеп! Жар залил половину лица, слезы брызнули из глаз, голова дернулась. Мать Брюса залепила Дженис крепкую пощечину.
- Не смей так шутить! - приказала она. - Нашла над чем смеяться!
Во дворик высыпали смутные фигуры. То ли зрение Дженнис повредила вспышка, то ли тучи закрыли солнце.
- Что за безвкусная ШУТКА! - На последнем слове голос сорвался на визг.
- Это спецэффекты, иначе мы услышали бы... - начал кто-то.
И тут их настиг звук: как будто громадный валун катился, набирая скорость, по склонам бездонного каменистого ущелья. В окнах на южной стороне дома задрожали стекла, стремительная птичья эскадрилья взмыла с веток. Гул, словно нескончаемый сверхзвуковой хлопок, заполнил все вокруг.
Дженис видела, как бабушка Брюса бредет к гаражу - зажав уши ладонями, опустив голову, согнув спину, выпятив зад - ни дать ни взять, дряхлая ведьма в изгнании. На спине у нее что-то болталось, и Дженис не удивилась, разглядев, насколько позволяли остатки зрения, слуховой аппарат.
- Я хочу проснуться, - требовательно и капризно протянул кто-то рядом. - Дайте мне проснуться! Хватит уже!
Там, где девяносто секунд назад был Нью-Йорк, торжествующе клубясь, высился темно-багровый ядовитый гриб, прожегший дыру в этом закате, во всех закатах, которым никогда уже не случиться.
Задул горячий ветер. Он лохматил волосы, поднимал их над ушами - и неумолчный скрежещущий вой становился все громче. Дженис подумала о теннисных мячиках, приземлившихся так близко, что при желании можно сложить их в одну жаровню. Так она написала бы, у нее талант. Был.
Она думала о путешествии, в которое Брюс с друзьями никогда не отправятся. О несостоявшейся вечеринке в "Зажигай", о Джей-Зи, Бейонсе и "Зе Фрей", которых им больше не слушать. Невелика потеря. Затем Дженис вспомнила о песенках в стиле кантри, под которые отец катит с работы в своем пикапе. Так-то лучше. Она будет думать о Пэтси Клайн и Скитере Дэвисе - еще немного, и она заставит свои полуослепшие глаза не смотреть.
Сообщение изменено: Lexxx (18 января 2011 - 01:11)
#83

 Отправлено 18 января 2011 - 01:57
Отправлено 18 января 2011 - 01:57

Кто-то кормит, кто-то ест
Feeders and Eaters
(Перевод. - Т. Покидаева, 2007)

В этой истории все – правда. Постольку-поскольку. Если это имеет значение.
Дело близилось к ночи. Я страшно замерз – в этом городе, где у меня не было права быть. Во всяком случае, в столь позднее время. Не скажу, в каком именно городе. Я опоздал на последний поезд. Спать не хотелось, и я решил прогуляться по улицам вокруг вокзала и поискать круглосуточное кафе. Место, где можно посидеть в тепле.
Вы знаете, что я имею в виду. Вы бывали в подобных местах: название кафе на неоновой рекламе «Пепси» над грязным окном, засохший яичный желток между зубцами всех вилок. Есть не хотелось, но я все же взял тост и стакан маслянистого чая – чтобы меня оставили в покое.
Посетителей было немного, человека два-три. Всеми покинутые, одинокие люди, страдающие бессонницей. Каждый – сам по себе. За отдельным столиком. Сгорбившись над пустой тарелкой. Заляпанные грязью пальто и спецовки, застегнутые на все пуговицы.
Когда я отошел от стойки с подносом в руках, кто-то громко сказал:
– Эй, ты! – Это был мужской голос, и я сразу понял, что он обращался ко мне. – Я тебя знаю. Иди сюда.
Я сделал вид, что не слышу. Я не хотел ни с кем связываться. И уж тем более – с человеком, который бывает в подобных местах.
А потом он назвал мое имя, и я обернулся к нему. Когда тебя называют по имени, выбора не остается.
– Не узнаешь? – спросил он. Я покачал головой. Я не знал этого человека. Если бы знал, я бы точно его не забыл. Такое не забывается. – Это я, – жалобно прошептал он. – Эдди Барроу. Ты меня знаешь.
Теперь, когда он назвал свое имя, я узнал его. Более или менее. В смысле, я знал Эдди Барроу. Мы вместе работали на стройке, лет десять назад, когда я в первый и единственный раз попробовал заняться ручным трудом.
Эдди Барроу был высоким и статным красавцем, с хорошо развитой мускулатурой и ослепительной голливудской улыбкой. До того как устроиться к нам на стройку, он работал в полиции. Иногда он рассказывал мне истории о суровых буднях служителей закона, правдивые истории о преступлении и наказании. Он ушел из полиции, когда у него начались неприятности с начальством. Из-за жены старшего инспектора. У Эдди вечно случались какие-то неприятности из-за женщин. Он им нравился, женщинам.
Когда мы работали на стройке, к нему постоянно ходили женщины. Буквально вешались ему на шею, носили сандвичи и прочие вкусности, окружали вниманием и заботой. Он вообще ничего не делал для того, чтобы нравиться женщинам. Он просто им нравился. Поначалу я наблюдал за ним, чтобы понять, что он делает, и как именно он привлекает женщин, но, повторюсь, он вообще ничего не делал. В конце концов, я решил, что ему и не надо ничего делать. Ему достаточно просто быть. Вот таким: большим, сильным, не очень умным, но зато невероятно красивым.
Но это было десять лет назад.
Человек, сидевший за столиком в полуночном кафе, был отнюдь не красавцем. Тусклые, красные глаза. Опухшие веки. Упертый в столешницу взгляд, полный отчаяния и безысходности. Лицо – серое, бледное. Он похудел, причем похудел очень сильно. Сквозь его сальные волосы проглядывала бледная кожа.
– Что с тобой? – спросил я.
– В каком смысле?
– Как-то ты плохо выглядишь, – сказал я, хотя он выглядел хуже, чем просто «плохо». Он выглядел, как покойник. Эдди Барроу был большим крепким мужчиной. А теперь он как будто усох, превратился в ходячий скелет. Сплошь кожа да кости.
– Да, – сказал он. Или, может быть: «Да?», я не понял. Он помолчал и добавил; – Так бывает со всеми, в конце.
Он указал левой рукой на стул, приглашая меня присесть за его столик. Правую руку он прятал в кармане.
Столик Эдди стоял у окна, и каждый, кто проходил мимо по улице, мог его видеть. Я никогда бы не выбрал такое место. Если бы выбирал сам. Но теперь у меня не осталось выбора. Я уселся напротив Эдди и принялся молча цедить свой чай. Да, я молчал, и, наверное, зря. Может быть, если бы мы заговорили, демоны, терзавшие его изнутри, не прорвались бы наружу. Но я молча пил чай, грея руки о чашку. И он, должно быть, подумал, что раз я молчу, значит, мне хочется выслушать его историю. Значит, мне не все равно. Значит, меня волнуют его проблемы. Но они меня не волновали. Мне хватало своих. Меня совершенно не интересовало, что его довело до такого убогого состояния – пьянство, наркотики или болезнь, – но он начал рассказывать. Он говорил тусклым безжизненным голосом, а я слушал.
– Я приехал сюда пару лет назад, на строительство новой дороги. А потом почему-то остался. Ну, ты знаешь, как это бывает. Снял приличную комнату в старом доме. В переулке рядом с Принс-Риджент-стрит. Комнату на чердаке. Это дом на одну семью, и хозяева жили там же. Сдавали только верхний этаж. Так что жильцов было мало. Всего лишь двое: я и мисс Корвье. Наши комнаты располагались рядом. Я слышал, как она ходит за стенкой. У хозяев был кот. Он иногда заходил к нам на чердак. Ну, вроде как поздороваться. Проявить интерес.
Хозяйка кормила меня за отдельную плату, и я ел вместе со всеми, за общим столом. А мисс Корвье ела отдельно и никогда не спускалась в столовую, и я увидел ее в первый раз где-то через неделю после того, как снял комнату. Она выходила из ванной. У нас была общая ванная, на чердаке. Она была такой старой, мисс Корвье. Лицо все в морщинах, как у старой обезьянки. Но у нее были длинные волосы, как у молоденькой девушки. По-настоящему длинные волосы. Почти до пояса.
Забавная штука с этими стариками... Мы почему-то уверены, что старые люди чувствуют все по-другому. Не так, как мы. В смысле, что вот мисс Корвье, которая годится мне в бабушки, и... – Он умолк на полуслове. Облизнул губы серым языком. – В общем... как-то под вечер я вернулся к себе, и на полу у меня перед дверью лежал бумажный пакет. В пакете были грибы. Я сразу понял, что это подарок. Подарок – мне. Но это были какие-то странные грибы. И я постучал в ее дверь. И спросил: «Это мне?» «Да, мистер Барроу, – сказала она. – Я их сама собирала».
«А они точно не ядовиты? – спросил я. – Их можно есть? Это не какие-нибудь психотропные грибочки?»
Она рассмеялась. Даже закашлялась от смеха. «Нет, мистер Барроу, – сказала она. – Это хорошие съедобные грибы. Чернильные грибы, так они называются. Но их надо есть сразу. Они быстро портятся. Получается очень вкусно, если поджарить их с чесноком на сливочном масле». Я спросил: «А вы сами будете есть?» «Нет, – сказала она. – Раньше я очень любила грибы. Но теперь мне нельзя. С моим-то желудком. Они очень вкусные. Наверное, самые вкусные грибы на свете. Странно, что люди об этом не знают. Вокруг столько вкусных вещей, но люди их не едят. Просто не знают, что это съедобно».
Я сказал: «Спасибо», – и пошел к себе. Положил грибы под раковину. Через пару дней они превратились в густую жижу, похожую на чернила. Пришлось убрать это все в пластиковый пакет и отнести на помойку.
Я как раз выходил на улицу с пакетом в руках и столкнулся в дверях с мисс Корвье. Она сказала: «Здравствуйте, мистер Барроу».
Я сказал: «Здравствуйте, мисс Корвье». «Называйте меня просто Эффи. – сказала она. – Вам понравились грибы?» «Очень понравились, – сказал я. – Большое спасибо».
После этого она принялась оставлять мне под дверью всякие разные подарки. Чуть ли не каждый день. Цветы в бутылках из-под молока, и все в таком роде. А потом они вдруг прекратились, подарки. Честно сказать, я испытал облегчение.
И вот как-то раз я, как обычно, обедал с хозяевами. Дело было в августе. К ним на каникулы приехал сын. Он учился в политехническом. И кто-то сказал, что они уже целую неделю не видели мисс Корвье. Меня попросили зайти к ней. Узнать, все ли в порядке. И я сказал: «Да, конечно».
После обеда я сразу пошел к мисс Корвье. Дверь была не заперта, я вошел. Она лежала в постели, укрытая простыней, Но все равно было видно, что она лежит голая. Не то чтобы я очень старался что-то там рассмотреть... Она годилась мне в бабушки, эта старуха. Но она была рада, что я пришел.
«Вам вызвать врача?» – спросил я.
Она покачала головой. «Я не болею, – сказала она. – Просто мне надо поесть».
Я спросил: «Вы уверены? Может быть, все-таки вызвать врача?»
Она сказала: «Эдвард, я не хочу доставлять никому беспокойства, но мне очень хочется есть».
«Я принесу вам поесть, – сказал я. – Что-нибудь легкое для желудка». Она посмотрела на меня как-то странно. А потом очень тихо сказала: «Мяса». Я подумал, что ослышался. Но она повторила: «Мяса. Свежего мяса. И непременно сырого. Буду готовить сама. Никому не даю готовить для себя. Мяса. Пожалуйста, Эдвард».
«Хорошо, мяса так мяса», – ответил я и спустился вниз. Мне вдруг пришло в голову, что можно взять мясо из кошкиной миски. Но, разумеется, я так не сделал. Не знаю, зачем я вообще взялся ей помогать. Все получилось само собой. Она сказала, что хочет есть, и я пошел принести ей еды. У меня просто не было выбора. Я дошел до ближайшего универсама и купил упаковку лучшего говяжьего фарша.
Кот почуял запах мяса. Увязался за мной на чердак. Я сказал: «Кот, ты даже и не надейся. Это не для тебя. Это для мисс Корвье. Она болеет, ей надо хорошо кушать». Кот замяукал с таким надрывом, как будто его не кормили как минимум неделю, хотя он не съел и половины того, что было в его миске. Глупое животное.
Я подхожу к двери мисс Корвье, стучу. Она говорит: «Входите». Она по-прежнему лежит в постели. Я отдаю ей упаковку фарша, и она говорит: «Спасибо, Эдвард. У тебя доброе сердце», а потом раздирает пластиковую пленку дрожащими пальцами. Прямо в постели. Кровь, собравшая на донце лоточка с фаршем, льется на простыню. Мисс Корвье этого не замечает. Мне становится жутко. Я иду к двери и слышу, что она уже ест. Сырой фарш. Хватает его руками и жадно пихает в рот. Не вставая с постели.
А на следующий день она встала. И была очень бодрой. Для ее возраста – прямо на удивление бодрой. Умчалась куда-то на целый день и пришла только под вечер. Вот говорят, мясо вредно. А ей оно явно пошло на пользу. Ну да, она ела его сырым... Ну и что? Даже блюдо такое есть, «фарш по-татарски», и его подают в ресторанах. Ты когда-нибудь ел сырое мясо?
Вопрос застал меня врасплох.
– Я?
Эдди посмотрел на меня своими мертвыми глазами.
– Здесь больше никого нет.
– Да. Только очень давно. Когда я был маленьким. Года в четыре. Или, может быть, в пять. Я ходил с бабушкой в магазин. И продавец из мясного отдела давал мне кусочки сырой печенки. И я их ел. Прямо там, в магазине. И все смеялись. – Я не вспоминал об этом лет двадцать. Но все действительно так и было. Я до сих пор ем печенку почти сырой. А когда я готовлю ее для себя, и у меня в гостях нет никого, и меня точно никто не увидит, я отрезаю кусочек сырой печенки и жую, наслаждаясь плотной консистенцией мяса и чистым вкусом железа.
– А я вот – ни разу, – сказал Эдди. – Я люблю мясо, но мне нравится, чтобы оно было нормально прожарено. А потом пропал Томпсон.
– Томпсон?
– Хозяйский кот. Кто-то мне говорил, что сначала котов было двое. Их звали Томпсон и Томпсон. Уж не знаю, с какой такой радости. Лично мне непонятно, зачем называть обоих котов одним и тем же именем. Как-то оно по-дурацки выходит. Первого Томпсона раздавил грузовик. – Эдди вдруг замолчал и принялся рассеянно водить пальцем по столу, собирая в кучку рассыпанный сахар. По-прежнему левой рукой. Я уже начал задумываться; «Может быть, у него вообще нет правой руки? Может быть, у него там пустой рукав?». Впрочем, мне не было до этого дела. Жизнь, она не обходится без потерь. Каждый что-то теряет.
Я пытался придумать, как бы потактичней ему намекнуть, что у меня нет ни гроша – на тот случай, если он попросит у меня денег, когда закончит рассказывать свою историю. У меня действительно не было денег: только билет на поезд и несколько пенни – на автобус от вокзала до дома.
– Вообще-то я не люблю кошек, – вдруг сказал Эдди. – Ну, то есть не то чтобы совсем не люблю. Но мне больше нравятся собаки. Они большие, надежные и верные. И ты всегда знаешь, чего от них ждать. А кошки, они не такие. Целыми днями гуляют сами по себе. Какие у них там кошачьи дела – кто их знает. Когда я был маленьким, у нас дома жил кот. Его звали Рыжик. А в другом доме на нашей улице тоже жил рыжий кот. Мармелад. А потом оказалось, что наш кот и их кот – это один и тот же кот. Жил на два дома и ел за двоих. Они хитрые, кошки. Своего не упустят. Им нельзя доверять.
Собственно, я поэтому и не заметил, что Томпсона нет уже несколько дней. Хозяева переживали. Но я был уверен, что он вернется. Кошки всегда возвращаются.
А потом, как-то ночью, я услышал, что где-то мяукает кошка. Причем постоянно. Не умолкая ни на секунду. Я пытался заснуть, но не мог. Дело было уже за полночь, и кошка мяукала даже не то чтобы очень громко... но когда тебя мучает бессонница, всякий звук раздражает. Я подумал, что это, наверное, Томпсон. Может, застрял где-то в стропилах или на крыше снаружи. Как бы там ни было, я уже понял, что заснуть не удастся. Я встал с постели, оделся. Надел ботинки, на случай, если придется лезть на крышу, и пошел искать кота.
Я вышел в коридор и прислушался. Звуки доносились из комнаты мисс Корвье. Я постучал в ее дверь, но никто не ответил. Я надавил на дверную ручку. Дверь была не заперта. Я вошел. Я думал, что Томпсон где-то застрял. Или, может, поранился. Я не знаю. Мне просто хотелось ему помочь.
Мисс Корвье в комнате не было. То есть там было темно и почти ничего не видно, но ведь всегда можно почувствовать, есть кто-то в комнате или нет. И только в дальнем углу что-то дергалось и надрывалось: «Мяу, мяу, мяу». Я включил свет, и...
Эдди умолк на полуслове и молчал, наверное, больше минуты, ковыряя пальцем колечко засохшего соуса на горлышке бутылки с кетчупом, сделанной в форме большого мясистого помидора. А потом он сказал:
– Он был еще жив. Это невероятно, но он был еще жив. То есть спереди все было живое: голова, грудь, передние лапы... Он дышал, он мяукал... но задние лапы, и ребра, и хвост... все было обглодано до костей. То есть действительно до костей. Как куриные кости, оставшиеся на тарелке. Кости и... как они называются... сухожилия? А потом он поднял голову и посмотрел на меня.
Да, это был кот. Бессловесная тварь. Но я сразу понял, чего он хочет. Прочитал по глазам. – Эдди опять помолчал. – Просто понял, и все. Таких глаз я не видел ни разу в жизни. Если бы ты видел эти глаза, ты бы знал. Ты бы понял, чего он хочет. И я это сделал. Потому что я не бессердечное чудовище.
– Что ты сделал?
– Я избавил его от мучений. – И вновь – долгая пауза. – Крови почти и не было. Я наступил ему на голову. Потом – еще раз, и еще, и еще... пока ничего не осталось. Ничего, что хотя бы отдаленно походило на что-то. И ты бы тоже так сделал. Если бы видел его глаза.
Я не сказал ни слова.
– А потом я услышал, как кто-то поднимается по лестнице на чердак, и подумал, что надо срочно что-то делать. В смысле, все было как-то неправильно, хотя я не знаю, как должно быть правильно, когда ты стоишь рядом с мертвым животным, которое сам и убил, и у тебя все ботинки в его крови, так что я просто стоял, как дурак, и вообще ничего не делал, а потом дверь открылась... Дверь открывается, и в комнату входит мисс Корвье.
Она все видит. Глядит на меня, а потом говорит: «Ты убил его». У нее странный голос, но я никак не пойму, в чем дело, а потом она подходит ближе, и я вижу; что она плачет.
Что-то есть в стариках такое... когда они плачут, как дети... тебе отчего-то становится стыдно. И вот я стою и не знаю, куда девать глаза. А она говорит: «Кроме него, у меня не было ничего, что давало бы мне силы жить. А ты убил его. Взял и убил. А я так старалась, чтобы он не умирал – чтобы у меня было свежее мясо. Я так старалась...»
Она говорит: «Я совсем старая. Мне нужно мясо.»
А я не знал, что сказать.
Она вытирает глаза рукой, говорит: «Я не хочу доставлять никому беспокойства», – и плачет. И глядит на меня. И еще говорит: «Я привыкла справляться сама». Она говорит: «Это было мое мясо. Кто теперь будет меня кормить?»
Он опять замолчал и подпер подбородок левой рукой. Он сидел с таким видом, как будто вдруг разом устал от всего: от разговора со мной, от истории, которую рассказывал, – вообще от жизни. А потом покачал головой, посмотрел на меня и сказал:
– Если бы ты видел его глаза, ты бы сделал то же, что сделал я. И любой на моем месте сделал бы то же самое.
Он поднял голову и посмотрел мне в глаза – в первый раз за все время, пока мы сидели. Мне показалось, что в его взгляде читалась мольба о помощи: что-то такое, о чем он никогда не сказал бы вслух, потому что был слишком горд.
Я подумал: «Сейчас он попросит денег».
Кто-то тихонько постукал в окно снаружи. Звук был еле слышен, но Эдди вздрогнул и засуетился.
– Мне надо идти. Это значит, мне надо идти.
Я лишь молча кивнул. Эдди поднялся из-за стола. Меня даже слегка удивило, что он по-прежнему такой высокий: во всем остальном он казался теперь таким маленьким. Поднимаясь, он задел столик – так что тот даже сдвинулся – и вытащил из кармана правую руку. Наверное, для равновесия. Не знаю.
Может быть, он хотел, чтобы я это увидел. Но тогда почему он прятал руку в кармане все время, пока мы сидели? Нет, скорее всего он не хотел, чтобы я это видел. Просто так получилось. Случайно.
Под пальто у него не было ни рубашки, ни свитера, и я увидел его руку: запястье и кисть. С запястьем все было в порядке. Самое обыкновенное запястье. Но кисть... то есть то, что осталось от кисти... Как будто ее обглодали до самых костей – дочиста, как куриное крылышко, – и лишь кое-где к кости прилипли кусочки засохшего мяса. Большой палец был съеден наполовину, а мизинца не было вообще. Видимо, кость отвалилась, когда не осталось ни кожи, ни мяса, которые держали ее на месте.
Я это видел. Но уже в следующую секунду он убрал руку в карман, быстрым шагом направился к двери и вышел в студеную ночь.
Я наблюдал за ним сквозь заляпанное грязью окно.
И вот что странно. Если судить по тому, что рассказывал Эдди, мисс Корвье должна была быть очень старой. Но женщине, которая ждала его на улице, не могло быть больше тридцати. У нее были длинные волосы. По-настоящему длинные, почти до пояса. О таких волосах говорят, что на них можно сидеть на попе, хотя мне не нравится это присловье. Похоже на фразу из малопристойного анекдота. Эта женщина чем-то напоминала хиппи. Интересная, даже по-своему красивая – красотой хищного «голодного» типа.
Она взяла Эдди за руку и заглянула ему в глаза, и они вместе ушли в темноту за пределами пятен света из окон кафе, точно двое подростков, которые еще только начали осознавать, что они влюблены.
Я подошел к стойке, взял еще чаю и пару пакетиков чипсов, чтобы продержаться до утра. Я все думал об Эдди и вспоминал его взгляд, когда он посмотрел мне в глаза – уже в самом конце.
Я уехал на первом же утреннем поезде. Прямо напротив, сидела женщина с ребенком. Ребенок плавал в формальдегиде, в огромной стеклянной банке. Ей нужно было его продать, причем как можно скорее, и хотя я кошмарно устал, мы проговорили с ней всю дорогу: и о том, почему она хочет продать ребенка, и вообще обо всем.
#84

 Отправлено 20 января 2011 - 02:11
Отправлено 20 января 2011 - 02:11

МУШКАТЕЛЬ
С самых школьных времен само по себе выходило так, что Мушкатель в любой ситуации умудрялся найти неприятности. Неприятности всегда были одного и того же свойства, случалась драка, и он, Яков Мушкатель обязательно оказывался зачинщиком. Он, как бы, старался не лезть, но судьба-злодейка оставляла эти робкие попытки без внимания. Да и учителя очень скоро перестали вникать в ситуацию, сразу сваливая на Мушкателя всю вину. Эти жизненные коллизии закрепили за ним репутацию человека обезбашенного, и со временем Яков Мушкатель, что называется, вошел в роль.
То, что он попал в десантные войска, уже само собой являлось недоразумением. Ведь всем известно, что самые обезбашенные солдаты служат в Голани. Видимо, еще на тестах перед призывом ответственный за определение обезбашенных в Голани вышел в туалет или попить кофе, и просьба Мушкателя служить в десанте оказалась чудсным образом удовлетворенной, его направили на отборочные проверки.
Результаты этой фатальной ошибки израильская армия ощутила вскоре после того, как взмыленный запыленный Мушкатель приполз к финишу девяностокилометрового марш-броска и гордо натянул на бритую шишковатую башку красный берет.
Чтоб не мелочиться, Мушкатель сходу обрел международную известность. Вышел, так сказать, на мировой уровень.
Случилось это во время вывода батальона из Зоны Безопасности.
Пересменка происходила на КПП Фатма. Дело было в те добрые, старые времена, когда жители приграничных ливанских деревень приходили в Израиль на работу, а многочисленные туристы фотографировались под скрещенными флагами, бело-голубым с шестиконечной звездой и красно-белым с кедром, покупали сахлеб* у старого друза, вечно дремлющего на табуретке под раскидистой тенью кривого эвкалипта, и пялились в бинокль на раскинувшийся за забором Мардж-Аюн.
Мушкатель со своим закадычным дружком Чико, как раз к друзу и направлялись, чтобы выпить сахлеба.
Высокий круглоголовый Мушкатель напоминал игрушечного баскетболиста, у которого все члены крутятся в любом направлении, независимо от положения тела, а маленький коротконогий Чико смахивал на колобка. Вместе они смотрелись очень колоритно.
Этот факт по достоинству оценили болтающиеся здесь же пехотинцы.
Друзья подошли к тележке, собираясь разбудить старика, и тут ехидный голос сзади прошептал:
- Посмотрите на этих клоунов!
Мушкатель крутанул голову на 180 градусов и увидел четырех ухмыляющихся "голанчиков".
Тут важно сделать отступление и объяснить, что у "голанчиков" с "цнефами**" всегда были натянутые отношения, а иногда даже возникали потасовки.
Как потом выяснило следствие, у батальона "голанчиков" в Метуле был день отдыха, пехотинцы должны были расслабляться в Канадском центре***, плавать в бассейне, играть в баскетбол, на худой конец кататься на коньках. За каким чертом несколько солдат поперлись на КПП "погулять", следствие установить не смогло.
- Это ты нам? - удивленно поинтересовался Мушкатель, до которого по причине высокого роста доходило медленно.
- Конечно нам, кому ж еще... - подписал приговор "голанчиков" Чико.
Старый друз продавал сахлеб под эвкалиптом еще британским и французским солдатам, так что чутье имел замечательное. Старик приоткрыл один глаз, сразу понял что назревает драка, проворно вскочил и, подхватив табуретку, укатил тележку за толстый древесный ствол.
К тому времени первый "голанчик" уже рассекал пространство получив от Мушкателя мощнейший апперкот. А Чико катился вверх тормашками в противоположном направлении получив удар ботинком в грудь.
Сейчас уже трудно определить кто первый заорал "Наших бьют!!!", может крикнули обе стороны, а может только одна, но на клич четко среагировали все кто находился вокруг. Вскоре перед воротами КПП катался рычавший ком, мелькали красные ботинки парашютистов и коричневые береты "голанчиков", а так же голые тела тех, кто примчался прямо из бассейна.
Численное превосходство было за пехотой, но десантуру такие мелочи не смущали, не зря "цнефы" когда-то продержались на "Китайской ферме" почти сутки.
В какой-то момент из кучи тел вытянулась длиннющая смуглая рука Мушкателя и зашарила по, некстати оказавшемуся на стене, пожарному щиту. Рука, словно щупальце гигантского осьминога присосалось к огнетушителю и рывком втянула его в кучу-малу.
К этому времени на безопасной дистанции устанавливала аппаратуру запыхавшаяся съемочная группа итальянского телевидения, снимавшая неподалеку сюжет об обстреле катюшами Метулы.
Драка без следа всосала наряд военной полиции опрометчиво попытавшийся разнять драчунов. Клубок тел в какой-то момент впечатался в пограничное ограждение. По сигналу сработавшей сигнализации примчалась группа быстрого реагирования.
На вопрос "кто кого?" стоявший в сторонке связист пояснил: пехота мочит военную полицию.
- Ясно! - констатировал старший наряда, скидывая разгрузку и автомат, - Водитель сторожит агрегат, остальные за мной!
Добавить пару плюх "манаекам****" всегда считалось в армии делом благословенным.
На площадь перед КПП выехал туристический автобус. Двери раскрылись выпуская толпу японских туристов. Японцы восторженно разбежались вокруг, размахивая фото и видео камерами, в поисках лучшего ракурса.
Когда из мешанины мельтешащих рук и ног вдруг вынырнул Мушкатель с огнетушителем наперевес, его встретил залп вспышек.
Мушкатель заморгал, прищурился, выискал взглядом тело с коричневым беретом под погоном и впечатал огнетушитель.
- БАНЗАЙ!!! - вырвалось у кого-то из туристов.
Между японцами метался взъерошенный подполковник, тыча содранным с забора указателем гласившим "Военная зона! Фотографировать запрещено!". Но сыны страны восходящего солнца не реагировали.
Предусмотрительный хозяин местного магазинчика прохаживался в толпе с полными карманами фотопленки и батареек, поднося японцам боеприпасы.
Шесть раз выныривал Мушкатель с огнетушителем, и шесть поверженных врагов остались лежать в пыли.
На седьмой раз огнетушитель сработал, с шипением выбросив завесу белоснежного тумана, из которого чихая и кашляя расползались участники конфликта.
Военные и гражданские полицейские хватали припорошенных белым бойцов, отводили во двор комендатуры, где уже собрались взбешенные командиры подразделений.
Около машины скорой помощи откачивали пятерых "голанчиков" и случайно подвернувшегося под огнетушитель "манаека".
* Сахлеб - сладкий арабский напиток на молочной основе, густой, ароматный и белый, его пьют обычно горячим, заправляя дроблеными орехами, вкуснее всего фисташками, корицей, тертым кокосом.
** Цнефы- сленговое название десантников.
*** Канадский центр - большой спортивный центр в Метуле, с катком, бассейном, тиром и многочисленными спортзалами.
**** Манаеки - презрительное прозвище военных полицейских.
Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Арнон Лидкин-Шахад цветом лица напоминал переспелый помидор. Сжимая в кулаке чашку кофе, он сверлил выпученными глазами телевизор. На экране под бодрые пояснения итальянского диктора колошматили друг друга десантники, пехота и просто те, кто не удержался, при виде побоища. Вокруг скакали японские туристы щелкая фотоаппаратами.
Ба-бах! Увесистая чашка вдребезги разлетелась об экран. "Сони", однако, выдержал, продолжая показывать, как грузят в машину скорой помощи запорошенных белым пострадавших.
- Найти!!! - взревел Лидкин, - Разобраться!!! Наказать!!! Особенно эту..., обезьяну, с огнетушителем!!!
- Есть! - отчеканил застывший в углу командир следственного отдела военной полиции.
- Позор! -Лидкин грохнул кулаком по столу, - Два боевых подразделения сменяются на позициях, как такое могло произойти?! Как!?! Да еще на глазах у этих... "самураев"!
- Разберемся, - командир МЕЦАХа* промокнул лоб, - доложим.
* МЕЦАХ - Сокращенно следственный отдел военной полиции.
Собственно, разбираться не пришлось. Мушкатель ничего не скрывал, даже наоборот.
- А ты, сам то? - напрыгивал он на следователя, тряся закованными в наручники руками, - Если бы тебя обозвали, ты бы не ответил?! А, не ответил?!
- Сядь! - успокаивал следователь, - Возьми себя в руки! Расскажи, где ты взял огнетушитель?
- Нет, ты мне скажи! - "брал себя в руки", возмущенный несправедливостью Мушкатель, - Ты бы не ответил на такое? Не ответил?
Судить "обезьяну с огнетушителем" вызвался лично командующий северным военным округом, генерал Авирам Лезин.
Мушкатель, в надвинутом на подбитый глаз берете, стоял по стойке смирно в генеральском кабинете. За ним "подстраховывал" крупногабаритный прапорщик.
- Ты признаешь себя виновным, признаешь обстоятельства произошедшего или не признаешь себя виновным? - Чеканил Лезин стандартные фразы, процедуру военно-полевого трибунала он знал наизусть.
- Нет, вот ты скажи! - взвился Мушкатель размахивая руками, - Ты бы смолчал?! Ты бы не ответил?! Если бы тебя обозвали клоуном!?
- Солдат, смирно!!! - взревел стоящий "на подхвате" прапорщик.
- Нет, ты мне скажи!!! - бесновался Мушкатель стуча кулаками по генеральскому столу.
- Уберите этого придурка!!! - рявкнул Лезин.
- Грррр! - рычал Мушкатель, но силы были не равны, а огнетушители предусмотрительный прапорщик заранее спрятал в приемной.
Двое дюжих полицейских выволокли возмутителя спокойствия из кабинета и запихали в машину. Напоследок Мушкатель умудрился расплющить кулаком стоящую на столе модель танка Меркава. Сидя в фургоне он, мстительно скалился и выковыривал из ладони пластмассовые обломки.
В тюрьме Мушкатель слегка подзадержался ибо не дать в морду надзирателю было выше его сил. А пока наш герой бухал ботинками об плац шестой армейской тюряги слава о нем разносилась по подразделениям.
Когда похудевший Мушкатель вернулся, всем своим видом он показывал, что поумнел, и больше его ни в какие неприятности не втянешь.
Через некоторое время командиры поверили, и даже сделали Мушкателя ротным старшиной. (В ЦАХАЛе эту должность может занимать солдат-срочник).
Наверное эта идиллия продолжалась бы до самого дембеля, если бы в чью-то светлую голову, в коридорах северного округа или генштаба не пришла гениальная мысль устроить совместные учения пехоты и десантников на Голанских высотах.
Это знаменательное событие привело командиров одного из батальонов Голани на базу к десантникам для обсуждения дальнейшего взаимодествия. В состав делегации вошли комбат, и оперативный офицер и двое сержантов.
"Абир" зарулил на базу, состоящую из палаток обнесенных колючкой, бака с водой и солдатского сортира. С разрешения хозяина, комбата парашютистов, машину припарковали на прямо на плацу, перед флагштоком. Тут важно пояснить, что плац или как его называют на иврите "рехават ха дегель" является очень важным местом на любой военной базе, там проводятся торжественные построения, разводы караулов, парады и т.д..
Комбаты уединились в штабной палатке. Водитель ковырялся в машине, один сержант направился в палатку-столовку в поисках чего-нибудь вкусного, а другой ушел в сортир.
Тут-то, на сцене появился Мушкатель. Заметив непорядок, в виде грузовика припаркованного в неположенном месте, он направился к водителю.
Обнаглевший водила, зная, что стоянка согласованна с комбатом, на все претензии нагло вопросил: "Лама ми ата бихляль?" (Ты, вообще, кто такой?)
И услышав в ответ: "Мушкатель", сначала не поверил. Он вылез из машины и нашаривая у себя за спиной монтировку переспросил:
- Мушкатель?
- Мушкатель! - грозно подтвердил Мушкатель, не ожидая в расположении родной части ничего худого, тем более водитель и остальные были в обычной полевой форме "бет", без знаков различия.
- Тот самый? - уточнил водитель, крепче сжимая монтировку.
- Тот самый! -подтвердил Мушкатель, постепенно начиная догадываться о чем речь.
- Здесь Мушкатель!!! - заорал водитель взмахивая монтировкой. Первым на вопль примчался один из сержантов пехотинцев. К тому времени водила катался в обнимку с Мушкателем, пытаясь повторно применить монтировку.
В неудачном положении оказался второй сержант, зашедший в столовку. Там он был один, а врагов много. Ударом ноги сержант выбил двухметровую железную трубу-подпорку поддерживавшую палатку и размахивая оружием начал прорубаться к своим. На выходе из столовой сержант двинул трубой по башке высокому десантнику, обладателю "древнего еврейского" имени Василий.
- Хуяссе! - на непонятном языке удивился Василий.
Ржавая, прогнившая по середке труба переломилась пополам. Сержант-голанчик удивленно раскрыл рот, видя, как человек, об голову которого он, только что, сломал железную трубу, стоит, не падает, да еще непонятно разговаривает.
Василий подхватил с земли обломок, издал боевой клич "Убьюсуканах!!!".
Обидчик не дожидаясь побежал. У машины тем временем кипела драка. Вмешавшийся было оперативный офицер сходу огреб в глаз, взял кого-то в захват, получил подсечку, и теперь дрался вместе с остальными.
Оба ошарашенных комбата прикидывали, как навести порядок.
Один из сержантов, зажимая рукой разбитый нос вполз в кабину "абира". Подсвечивая себе искрами, обильно сыпавшими из подбитого глаза, он принялся нашаривать гарнитуру рации.
Гарнитура нашлась и в эфир полетел отчаянный "Мэйдэй!".
На счастье, а может и на беду, смотря как подходить к проблеме, в километре от них тяжело топтала шоссе навьюченная полной выкладкой рота бригады "Голани", совершая марш бросок.
- Где, где? - уточнил координаты здоровенный связист командира роты, - А не врешь?
- Мамой клянусь!!!!! - истошно выкрикивал сержант, и нарушая все правила радиообмена назвал имена своего комбата и оперативного офицера, - Их, кажись, запинали уже... на всякий случай жалобно добавил сержант и всхлипнул.
Окажись ротный рядом со своим связистом, топать бы пехоте дальше по дороге. Но летеха возился на обочине с подвернувшим ногу бойцом.
А связист повернулся к товарищам и сообщил: - Прикиньте, мужики! Там десантура наших мочит!
Слух моментально облетел всю колонну от авангарда, до арьергарда и сомкнув ряды в компактный строй рота поддала газу.
- Держись браттелло! - хрипел на бегу связист, прижимая к уху гарнитуру, - Подмога идет!!!
На поле брани дело подходило к концу, комбаты при помощи матюгов и тумаков разогнали большую часть дерущихся по сторонам, да и силы были явно не равны. Но тут земля задрожала, затряслась и на горизонте, как засадный полк князя Владимира, нарисовалась из облака пыли наступающая пехота.
- Нааашиии!!! - сержант с подбитым глазом выкатился из кабины, - Мочи "цнефов"!!!
Успокоившиеся, было бойцы снова кинулись друг на друга.
Десантники, надо отдать им должное, быстро сориентировались в обстановке, кто-то завертел ревун боевой тревоги и тугой унылый вой повис над палатками, скидывая с кроватей тех, кто еще не принял участие в боевых действиях.
Топавшая, словно слоны Ганнибала рота походя вынесла шлагбаум КПП и опрокинула будку дежурного. Вскоре по плацу каталась зеленая масса голов, рук и ног, то распадаясь на отдельные схватки, то сливаясь вновь. Обоих комбатов давно похоронили где-то в самом низу.
Как это обычно бывает в израильской армии, если боевые части бессильны, ситуацию спасают тыловики.
Из недр кухонной палатки неторопливо выплыла приблатненая сытая харя. Выражение на харе застыло наглое и высокомерное, однозначно указывавшее на принадлежность ее обладателя к касте поваров или каптерщиков. Уши находившиеся, как им и положено, справа и слева от хари топрощились заткнутые наушниками, из брезгливо изогнутых губ торчала сигарета. Повар почесал пузо под белой футболкой, со смаком затянулся, выпустил дым и только тогда обвел взглядом окрестности.
Панорама открывалась - "что надо".
- Ну вы, блин, даете... - оценил происходящее повар.
Из кучи малы к его ногам выполз комбат-десантник. Дико вращая выпученными от бешенства глазами он хрипел:
- Прекратить! Я приказываю прекратить...
Труженик общепита нагнулся к начальству вытащил изо рта сигарету, сдвинул с ушей наушники плеера и переспросил:
- Прекратить? Ага! Будет сделано!
Повар еще раз затянулся, хозяйственно пристроил бычок на пустой ящик, потом докурить, и исчез за палаткой. Через секунду он вынырнул обратно, волоча за собой шланг.
Мощная струя пожарного брандспойта ударила в толпу.
Вскоре все было кончено. Противники отплевывались в пыли утирая носы и щупая зубы. Победила, так сказать, дружба.
Тут необходимо заметить, что традиционная взаимовыручка между боевыми солдатами и тыловиками уходит корнями в далекие восьмидесятые когда дождливой осенней ночью двое террористов попытались пересечь границу между Ливаном и Израилем при помощи дельтапланов. Один приземлился на территории Ливана и был застрелен солдатами. Второй удачно сел недалеко от израильского города Кирьят Шмона, нашел ближайший военный лагерь и бросился в атаку.
Дежуривший на КПП солдат просто испугался и убежал, чем оказал боевику ценную услугу. Тот ворвался на территорию части и заметался между палатками поливая округу из "калашникова" и разбрасывая гранаты.
На базе началась паника. И неизвестно чем бы все закончилось, если бы не каптерщик-тыловая крыса, выползший на крыльцо покурить. Каптерщик спокойно, как на стрельбище, зарядил винтовку и двумя выстрелами отправил нарушителя спокойствия в благословенные объятия заждавшихся гурий.
Дело кое-как спустили на тормозах, солдатам и офицерам обоих подразделений надавали по рогам и надолго лишили увольнительных. Однако невероятные слухи и сплетни чуть ли не год передавались из уст в уста, причем фамилия "Мушкатель" везде занимала почетное место.
Комбат же вызвал нашего героя на разговор и без обиняков заявил, что если Мушкатель позволит себе устроить еще один подобный инцедент, да что там устроить, если он хоть пальцем окажется замешан в чем-то похожем, комбат влепит ему такой срок, что его из армейской тюрьмы переведут на обычную гражданскую зону.
Мушкатель уткнув глаза в пол, только угрюмо бурчал...
-... а ты бы не ответил... а ты бы... если б тебя... монтировкой...
- Пошел отсюда вон! - тактично завершил разговор подполковник, - И больше мне не попадайся!
Мушкатель отнесся к угрозе командира серьезно. Сама по себе угроза вообщем-то была мало осуществимой ибо нет у подполковника такой власти, вешать подчиненным огромные срока, но ежели чего, спихнуть дело комбригу или того хуже в военный суд любимое начальство вполне способно, а там всякое может случится.
Вообщем Мушкатель твердо решил закончить службу без приключений, засунул кулаки поглубже в бездонные карманы полевых штанов "бет" и зарекся их вытаскивать, хоть монтировкой его охаживай, хоть по матери склоняй. Пару раз Мушкателя все же обижали разные нехорошие люди. Один раз свои десантники, а второй раз саперы. Родной десантуре сошло с рук. Наглого же сапера Чико отловил чуть позже на автобусной остановке и популярно объяснил что к чему, от усердия вывихнув большой палец.
Мушкателю почти удалось продержаться до дембеля. Почти - потому как военная служба это вам не шашлык на "мимуну*" пожарить.
* Мимуна - традиционное застолье марокканских евреев, проводимое в последний день Пасхи
Как всегда Мушкатель оказался не виноват, почти. Но не будем забегать вперед.
Как писал Булгаков, "тьма накрыла Йерушалаим", не Йерушалаим конечно, а всего лишь Зону безопасности в южном Ливане. Накрыла она и опорный пункт, торчащий на вершине холма, ощетинившийся пулеметами, опутанный по склонам колючкой, под которой было натыкано видимо не видимо всякого минного хозяйства, как своего, так и чужого.
В подземных казематах этого самого пункта, сиречь форпоста, кипели нешуточные страсти. Шел завершающий раунд игры в шеш-беш между Мушкателем и Чико. Шесть предыдущих партий окончились в ничью - 3:3 и вот теперь на доске подходило к концу последнее решающее сражение, после которого побежденный должен был идти на кухню, готовить ужин на все отделение. Само же отделение толпилось вокруг, нетерпеливо переругиваюсь, в предвкушении обильной трапезы.
Фортуна от Чико явно отвернулась, но настроен он был держаться до последнего. Мушкатель же предвкушал победу.
Только одно портило ощущение триумфа: литр кока-колы и четыре чашки кофе нещадно давили на мочевой пузырь, но по нужде в такой волнующий момент его просто не выпустили бы голодные сослуживцы.
Наконец Чико с досадой жахнул кулаком по заменявшему стол снарядному ящику и грубо выругался. Болельщики восторженно завопили, заволновались и потребовали ужина. Печальный Чико встал и потащился на кухню.
Мушкатель осторожно, не расплескать бы, двинул справлять нужду. До туалета он, пожалуй, не дотерпел бы, а потому, Мушкатель просто вышел из бункера, свернул в ход сообщения, добрел тупикового изгиба, под стеной танкового капонира. Здесь он расстегнул штаны и принялся поливать высокую бетонную плиту. Расслабон и блаженство овладели чемпионом форпоста по нардам. Хорошее настроение повышалось обратно пропорционально уровню жидкости в мушкателевом организме.
Тупо пялиться на бетон быстро наскучило, и Мушкатель огляделся по сторонам.
Ночь переливалась лунным светом, перемигивалась огоньками христианская деревня, раскинувшая улицы у подножья холма. Кроме стрекотания сверчков ничего нарушало пастораль прохладной осенней ночи.
Легкое движение за бруствером привлекло внимание. Мушкатель вздргонул и вгляделся в темноту. За брусвером никому и ничему двигаться как-то неположено.
В призрачном лунном свете, по напрочь заминированному склону легко, почти небрежно скользила человеческая фигура, перешагивая колючку обходя рытвины и ямы.
Мушкатель замер на месте, не в силах прервать процесс отправления естественных надобностей. По коже продрало холодом. Винтовка бесполезно болталась за спиной. Магазин лежал где-то в кармане куртки, точнее Мушкатель надеялся, что он там.
Литься наконец перестало. Избегая резких движений он заправил "хозяйство" в штаны и максимально задвинулся спиной в тень, одновременно стараясь нащупать в кармане магазин. От неожиданного гостя его частично скрывал выступ бетонной плиты.
Тем временем призрак скользнул в ход сообщения. Тускло блеснул в лунном свете характерный силуэт "калаша". Магазин Мушкатель наконец нашупал, оставалась самая "малость": извлечь его из кармана и зарядить оружие.
"Налево! Поверни налево!" мыслено умолял он гостя. Но гость постоял мгновение и повернул направо. Хорошо хоть луна скрылась за тучей.
"Кранты!" - философски подумал Мушкатель, - "если, конечно, он меня заметит!".
Мушкатель вжался спиной в бетон и сдвинул набок винтовку. Призрак, чудесным образом пересекший минное поле, крался по тарншее.
Вот он оказался совсем рядом, всего в полуметре. Мушкатель перестал дышать.
Гость сделал шаг вперед.
"Ногой под колено, а как повернется, сразу прикладом в рожу, под каску..." прикидывал Мушкатель.
Разошедшиеся тучи положили конец его размышлениям, луна засияла во всей красе. Боевик засек постороннюю фигуру боковым зрением и среагировал мгновенно. В лицо полетел увесистый деревянный приклад.
Уклониться Мушкатель успел чудом, железный затыльник ощутимо скользнул по голове и с лязгом впечатался в бетон. Понеслось. Мушкатель вцепился в автомат противника, лягнул в ногу пониже колена, удовлетворенно почувствовал - попал. Дернул автомат в бок выводя боевика из равновесия. Но тот, падая провел подсечку и оба рухнули в ход сообщения, где в тесноте между стенками началась бестолковая возня.
Пока перетягивали друг на друга "калаш", пока пинались ногами, бодались головами, в толкучке кто-то зацепил спуск и дикий грохот ударил по ушам, а в глаза плеснуло огнем и бетонным крошевом. Весь "калаш" опустошился в небо, несколько пуль попали в стенку и с визгом ушли в сторону. Покуда оглушенный и ослепленный Мушкатель приходил в себя, противник вырвался, перескочил через бруствер и бросился наутек.
Проморгавшись Мушкатель сунул руку в карман. Пусто. Матерясь он метнулся на раположенную рядом наблюдательную позицию. Пост был дневной, ночью на нем не дежурили, но телефон имелся. Мушкатель крутанул ручку, проорал кодовое слово, означавшее проникновение противника на базу, и назвал сектор.
Выбежав обратно он споткнулся о собственный магазин, подобрал, вогнал в винтовку, передернул затвор и побежал к стрелковой ячейке, откуда простреливался склон.
"Ну, падла..." - думал Мушкатель, - сейчас... сейчас...
"Сейчас" не получилось, кто-то метнулся под ноги, а кто-то другой, тяжелый навалился сверху.
- Есть, - расслышал Мушкатель голос Чико, - держим, попался, "мАньяк!*"
Мушкатель взорвался матюгами, разобрав родословную Чико до пятого колена включительно.
- Еще и ругается по нашему, пидор! - возмутился Чико.
- Кто пидор?!?!?! - взревел Мушкатель, бешено вырываясь.
Над головой хлопнула ракета, все залило дрожащим оранжевым светом.
Чико подвинулся, освободил голову "пленного", разглядел знакомые черты и ойкнул.
Рядом ударил пулемет, захлопали винтовочные выстрелы, но стрельба вскоре заглохла, ночного гостя уже и след простыл.
Отдышавшись потащились обратно в бункер, на "разбор полетов".
Из дверей тянулся едкий запах сгоревшей яичницы.
Это было последней каплей, Мушкатель обернулся и вперил в Чико такой сверепый взгляд, что тот втянул голову в плечи и жалобно развел руками.
Утром саперы проверили склон, все оказалось на месте, мины растяжки, ловушки...
- Призрак какой-то... - озадаченно чесал в затылке командир форпоста, - Полтергейст....
Мушкателя тем не менее похвалили. Как ни крути, сопротивление оказал, проникновение предотвратил.
* Маньяк - (с ударением на первом слоге) в иврите оскорбительное ругательство.
Почетные грамоты отличникам боевой и политической подготовки вручал лично командующий северным военным округом генерал Авирам Лезин.
Он шел вдоль строя, пожимал каждому руку, вручал грамоту, говорил несколько слов.
Дойдя до Мушкателя он крепко стиснул протянутую ладонь:
- Сорвал нападение боевиков... молодец, молодец...
- Дык я... дык он... - мычал растроганный Мушкатель, за три года службы похвалами начальства не избалованный, - дык, я того...
Вид у генерала был такой, словно собеседника он где-то видел, но никак не может вспомнить где.
- Молодец, - повторил Лезин, вручая солдату грамоту, - так держать!
- Дык я это... - буркнул Мушкатель и сбился на привычное, - А ты бы не ответил?! Если бы тебе прикладом по башке?! Ты бы не ответил?!
Глаза Лезина широко раскрылись, он побледнел, мотнул головой, словно отгонял какие-то нехорошие воспоминания и шагнул к следующему солдату.
Вопрос Мушкателя так и остался без ответа.
#85

 Отправлено 04 февраля 2011 - 01:45
Отправлено 04 февраля 2011 - 01:45

Ну что же.
Поздравляю.
Из тайн остались только военные.
Сыну десять лет. Чего ему нельзя знать?
О чем нельзя говорить?
Как я могу круглые сутки бегать за ним, выключать телевизор?
Утром, днем, вечером.
Не помню уже, что я хотел от него скрыть?
Голые с шести утра по всем каналам.
В любой рекламе вечерних программ.
Хотят завлечь-привлечь.
Прилечь.
Раньше я ему: «Закрой глаза!»
Затыкал уши руками.
Жалко его.
Синяки у него от пальцев моих.
Они его калечат внутри.
Я снаружи.
— Не смотри! Не слушай!
Выйди. Вернись. Нет, выйди — выйди. Сиди. Уйди. Войди-выйди.
Не успеваем мы.
Затихает он.
Прорываются они к нему.
И тут же в душу.
Сын десяти лет вдруг:
— Папа, я голубой?
Дочь:
— Папа, меня тянет к маме.
К тете.
Сына к дяде.
А те, кто хотят заработать…
Что, в жизни нет карт, курева, наркомании?
Да есть это в жизни.
Но как оно туда попало?
Может, из ящика в жизнь быстрее и больше, чем из жизни в ящик?
Ну и для чего я, как идиот, скачу впереди ребенка и выключаю всё подряд:
— Не смотри, нельзя. Рано тебе!
Я один во всем мире кричу:
— Рано тебе!
Остальные ревут жадно:
— Десять лет — пора, пора.
Давай деньги — на кассету, на обложку.
Видишь, как женщина лежит?
Знаешь, для чего?
Не знаешь еще?
Дай сто рублей — держи ответ.
Перекачал из души ребенка себе в карман.
Что ему сотни тысяч взрослых.
Откуда взрослый возьмет, если ребенку не дать.
Коммунисты враньем калечили. Эти — правдой.
Там — запретом по правде.
Здесь — правдой по запрету.
Всё наоборот в нашей стране.
Уже нет шуток без мата! Остроумие... в душу...
А, в общем, поздравляю.
Может быть, так и может быть.
Попробуем.
Просто непривычно — секс-мат-начал-кончил-отпустил.
— Ты уже?
— Я еще нет.
— Я уже, а ты еще нет?
Чего-то как-то примитивно.
Так и видишь заросший шерстью зад, восемь копыт.
Жеребца привезли, кобылу доставили, конюхи суетятся, радостное ржание.
Ее беременеть погнали, его к другой повезли.
Нормально.
Маленькие, доверчивые.
— Дай ручку дяде…
И уводят из магазина от мамы.
Он плачет и идет.
Мучительно видеть, как он держится за незнакомую руку и уходит, уходит.
Страшно кричит мать, суетится милиция.
Увели ребенка.
Где его найдут?
Каким он станет?
Но точно. Он не вернется.
#86

 Отправлено 09 октября 2011 - 09:49
Отправлено 09 октября 2011 - 09:49

В августовском "Плейбое" был опубликован прекрасный рассказ Чака Паланика, которым я хотел бы поделиться со здешними завсегдатаями:
Чак Паланик
РОМАНС
ПЕРЕВОД: Владислав Крылов
Можете меня поздравить. У нас с женой родились двойняшки, и, кажется, с ними все в порядке. По десять пальчиков на руках, по десять - на ногах. Две девочки. Но... вы знаете, как это бывает, у меня все равно какое-то чувство... Словно что-то обязательно пойдет не так, просто потому что так всегда получается, когда дела обстоят слишком хорошо. Я все еще опасаюсь, что этот прекрасный сон вдруг закончится.
В смысле вот, к примеру, я, пока не женился, встречался с одной девчонкой, толстой такой. То есть мы оба были толстыми, так что нам было легко друг с другом. И та девчонка, она вечно испытывала на нас всякие диеты для похудения: то мы не ели ничего, кроме ананасов в уксусе, то ничего, кроме каких-то зеленых водорослей из пакетика. А еще она всегда настаивала, чтобы мы долго гуляли пешком. В конце концов она стала сбрасывать фунт за фунтом, бедра у нее словно растаяли, и видели бы вы, как она была счастлива! Но уже тогда я знал: случится что-то, из-за чего все пойдет прахом. Вот такое чувство, вы тоже его знаете: когда кого-нибудь любишь, то счастлив, если счастлива она, но я был уверен, что теперь моя подружка меня бросит. Потому что теперь она попадала в поле зрения и интересов парней с карьерой и с медицинской страховкой. Она и до того была милашкой-хохотушкой, но теперь, когда она стала еще и худой, у нее очевидным образом проявились неисчерпаемые резервы способностей к самоконтролю и самодисциплине, с моими никак не сравнимые. Друзья тоже не помогали, наоборот, они кружили вокруг в ожидании, когда же она меня пошлет, чтобы самим начать с ней встречаться. А потом вдруг выяснилось, что дело не в ананасах и не в самодисциплине, а в том, что у нее рак, но она все же успела поносить второй размер, прежде чем померла.
С тех пор я и знаю: счастье - это тикающая бомба. А жену я встретил, потому что решил больше ни с кем не знакомиться, никогда, ни за что, а вместо этого сел в поезд и поехал в Сиэтл. Там проходил рок-фест «Лоллапалуза», так что я упаковал палатку, завернул в спальный мешок бонг, в общем полностью экипировался для жизни на природе вроде какого-то Гризли Адамса и отправился в вагон-бар. Иногда, знаете ли, просто необходимо забыть о друзьях и трезвости на несколько дней. И вот зашел я в вагон-бар и сразу наткнулся на взгляд этих зеленых глаз, холодный, как камень, и неотразимый. А я не чудовище, я не какой-нибудь жиртрест из реалити-шоу, валяющийся на больничной койке с коробкой жареных цыплят. Я вообще-то понимаю, почему парни мечтают работать охранниками в женской тюрьме или в концлагере, где они могли бы встречаться с симпатичными зэчками и никто бы им не ну-дел «Надень рубашку!» или «Ты что, вечно так потеешь?». Но я-то в поезде, и рядом со мной эта богиня в майке Radiohead, обрезанной так, что видно животик и не только, а джинсы спущены по самое не могу, а на каждом пальце по кольцу с Микки Маусом или с Холли Хобби, а к своим прекрасным губам она поднесла бутылку и смотрит на меня сквозь нее - обычную прозрачную бутылку с дешевым пивом.
А парни вроде меня знают расклад. Если ты не Джеймс Белуши или Джон Кэнди, никакая красотка вот так на тебя глаз не положит, так что я сразу понял, что лучше мне пристыженно отвернуться. Такая девчонка может заговорить со мной разве что для того, чтоб донести сенсационную новость: я жирный козел и загородил ей весь вид на океан. Знай свои пределы, я так считаю. Целься пониже, и не промахнешься. Протискиваясь мимо нее, я все же присмотрелся - не глядя присмотрелся. Пахнет здорово, как какой-то десерт, нет, как пирожок, тыквенный пирожок с красно-коричневой корочкой! Еще того лучше, пивная бутылка в ее губах поворачивается вслед мне, пока я пробираюсь к бару и заказываю себе выпивку, при том что мы явно не последние мальчик и девочка, оставшиеся на земле. За соседними столиками выпивают другие люди, судя по дредам и майкам в разводах, они тоже едут на «Лоллапалузу». Я забираюсь за самый дальний столик, но красотка продолжает наблюдать за мной. Ну вы сами знаете, когда на тебя так пялятся, шагу не сделаешь, не споткнувшись, особенно в поезде. Только я собираюсь бухнуть, как поезд входит в поворот и все пиво льется прямо на мою полосатую ковбойку. Я притворяюсь, что смотрю в окно на деревья, но тайком, как секретный агент, поглядываю на ее отражение в стакане и вижу, что она все пялится на меня. Отвлекается только раз, когда подходит к бару и дает бармену деньги, а он ей другую бутылку пива, а потом ее отражение становится все больше и больше, вот уже в натуральную вели¬чину, и она стоит рядом с моим столиком и говорит «привет» и что-то там еще.
А я говорю: «Чего?»
А она показывает на мою ковбойку, на эти пятна от пива, и говорит: «Мне твои пуговки нравятся... блестящие!»
Я упираюсь подбородками в грудь и гляжу на перламутрового цвета кнопки.
Это не пуговицы, это кнопки, но я не хочу заострять внимание на этом обстоятельстве. И я тут же замечаю, что она иногда сует в рот пальцы - ладно, что там, она постоянно сует в рот пальцы и говорит с придыханием таким девчачьим голосочком всякие детские словечки: «каклетка» вместо «котлета» или «бабака» вместо «собака» - но ведь для образцовых красоток это азбука сексуальности.
Она подмигивает мне, облизывает губы кончиком язычка и этими влажными губами произносит: «Я Бритни Спирс!» Вот она какая дразнила, оказывается. Понятно, набралась немного. Че там, лыка не вяжет. К этому времени мы уже пьем текилу из маленьких бутылочек - мы ведь не ведем этот поезд. Нет, она не Бритни Спирс, но она того же калибра крутизны. Видно, что выдрючивается, но по-доброму. И достаточно просто посмотреть на нее, чтобы понять все, что нужно понять.
Мой единственный шанс - держаться, заигрывать и не забывать покупать выпивку. Она спрашивает, куда я еду, и я отвечаю, что на «Лоллапалузу». Она проходится пальчиками по моей рубашке. Пальчики шагают по кнопкам от ремня к моему горлу, а потом опять вниз, и я надеюсь, что она не чувствует, как колотится мое сердце.
И она такая кокетка, зеленые глаза смотрят то искоса, то прямо, с поволокой, из-под длинных дрожащих ресниц. И она уже обогнала меня на несчетное количество бутылок, потому что забывает заканчивать предложения и время от времени показывает на что-то за окном и кричит: «Бабака!» - а увидев на переезде машину, кричит: «Жучок!» - и колотит меня в плечо всеми своими миккимаусовыми перстеньками, а я втайне надеюсь, что синяк не пройдет до конца жизни. И мы вместе идем на «Лоллапалузу» и ставим палатку, и Брит настолько пьяна, что, проснувшись на следующее утро, она все еще пьяна. И сколько б дури я ни выкурил, мне все равно за ней не угнаться. Может, это потому, что Брит такая тощая, но, кажется, она пребывает под кайфом, даже когда не пьет, словно ей хватает дыма, который выдыхаю я. Вся наша «Лоллапалуза» похожа на классическую историю любви, как в Интернете, только там надо платить, чтоб вздрочнуть, а эта происходит со мной и наяву. И мы встречаемся полгода, мы вместе на Рождество, Брит перевозит ко мне свои вещи, а я все опасаюсь, что как-нибудь Брит проснется утром и протрезвеет.
На День благодарения мы едем обедать к моей маме, и мне приходится объясняться. Не то чтобы Брит была привередлива в еде, но она такая тощая, потому что ест только кабачки цуккини, разрезанные вдоль так, чтобы было похоже на каноэ ирокезов, с насечками на кожуре на манер индейских письмен и с целым племенем фигурок храбрецов из сырой морковки, но с головами из горошин внутри. Каноэ плывут на войну по большой тарелке шоколадного сиропа, и вы удивитесь, когда узнаете, как много ресторанов забыли включить это блюдо в свое меню. Так что обычно Брит приходится готовить его самой, а это полдня работы, а потом же надо и поиграть со всем этим на ковре в гостиной, так что Брит не грозит прибавить ни унции веса. Ну а моя мама, она попросту охренела от радости, узнав, что у меня опять есть девушка.
И никакой порошок, никакая трава не доставят такого кайфа, как ощущение от прогулки по улице под ручку с моей тотально супермодельной каменно-холодной стервочкой Брит. Парни, едущие за рулем своих «Феррари-Тестаросса», парни с животами кирпичиками и стероидными бицепсами - впервые в жизни у них не было превосходства надо мной. Я иду по улице с моей Бритни, и она награда, которую каждый парень мечтает получить.
Напрягает только то, как все эти Ромео снюхиваются вокруг нее, стараясь привлечь внимание, и улыбаются ее сиськам лучшими пепсодентовыми улыбками. Как-то раз едем мы в автобусе, и целая компания Ромео стоит рядом с нами, а мы с Брит сидим на заднем сиденье. Брит любит сидеть у окна над задними колесами, чтобы всегда первой видеть «Фольксваген», если попадется, и долбить меня по плечу с криком: «Жучок!» Один из этих здоровенных Ромео устраивается так, что его ширинка прямо на уровне ее глаз, и, когда автобус подскакивает на выбоине, его бедро нет-нет да и потрется об ее плечо, и Брит наконец смотрит на него и, не вынимая пальца изо рта, говорит: «Привет! Какой боль шой мальчик!» Брит, она такая, добро¬желательная. И тут она подмигивает и манит его мокрым пальчиком наг¬нуться. Он глядит по сторонам, чтобы удостовериться, что конкуренты заметили его удачу, и наклоняется, а лицо у него - хоть сразу в койку. И, может быть, чтобы я поревновал, Брит говорит этому Ромео (зеленые глаза так и сверкают!): «Хочешь, покажу фокус?»
Все остальные Ромео обламываются, но понятно, что они не хотят упустить ни слова, а Брит вынимает пальцы изо рта и засовывает себе в штаны, чем-то там шурует в джинсах, и вся задняя площадка автобуса замирает, глядя, как ее пальцы борются со вшитой в линялый деним молнией. И видно, как эти Ромео нервно сглатывают, их адамовы яблоки ходят ходуном, а глаза вылезают из орбит, не говоря уж обо всем прочем.
И тут с быстротой завзятого игрока в «жучка» Бритни выдергивает что-то из штанов и вопит: «Фокус-покус!» А в руке что-то на шнурочке, вроде чайного пакетика, только больше. В общем, это похоже на хот-дог с кетчупом на веревочке, и Брит верещит: «Фокус-покус! Театр марионеток!» - и вмазывает этой штукой по щеке Ромео, примостившегося у сиденья. Брит гонится за ним по проходу, вопя и украшая его кожаную куртку красными полосками. А остальные Ромео стараются больше на нее не смотреть, они пялятся в окно или на свои ботинки; а она старается украсить их головы красными кляксами и вопит, и визжит, и смеется: «Фокус-покус! Театр марионеток! Ха-ха-ха!» Автобус дзынькает на остановке, и сразу сотня пассажиров срывается в супермаркет, толкаясь и спотыкаясь, внезапно вспомнив, что им надо срочно купить газировки и проверить лотерейный билет. А я ору им вслед из окна автобуса: «Слушайте, все нормально! Она художница! Это не в обиду, это был перформанс, политическое заявление о тендерной политике!»
Даже когда автобус отправляется дальше с двумя единственными пассажирами - нами, я продолжаю орать: «Просто она свободна духом!» А Брит проходит вперед и начинает хлопать своим «чайным пакетиком» водителя. «Уж такое у нее чувство юмора!» - ору я.
И вот однажды вечером я прихожу с работы, а Брит стоит голая перед зеркалом в ванной и держит свой животик обеими руками, а она все же набрала немного веса с тех пор, как мы встретились в поезде, но не так много, чтобы нельзя было исправить парой недель на ананасах в уксусе. И Брит-ни берет меня за руку, прикладывает мою ладонь к своему животу и говорит: «Пощупай!»
«Кажется, я проглотила ребеночка», - говорит она.
И она глядит на меня щенячьими зелеными глазами, а я спрашиваю, хочет ли она, чтобы я пошел с ней в клинику, где с этим вопросом разберутся, и она кивает в ответ. Мы идем туда вместе в выходной, а вокруг на тротуаре все эти училки из воскресной школы. У них мусорный мешок, пустой, если не считать кучи кукольных конечностей вперемешку с кетчупом, но Брит не теряется. Она лезет в их мешок, достает пупсовую ножку и слизывает с нее кетчуп, как с картошки фри, дочиста - вот такая она крутая, моя красавица подружка. И я раскрываю National Geographic, пока медсестра спрашивает у Брит, ела ли она что-нибудь сегодня, а Брит отвечает, что съела целое каноэ воинов-ирокезов вчера, а сегодня - нет, не ела еще ничего. И не успеваю я дочитать статью про древнеегипетские мумии, как раздается визг и Бритни вылетает из кабинета, все еще в бумажном халате и босиком, будто случилось что-то страшное, будто она никогда раньше не делала аборт, потому что она так и несется босой прямо до моей квартиры, и, чтобы ее как-то успокоить (а ее трясет и тошнит), мне приходится сделать ей предложение.
И совершенно понятно, что все мои друзья сходят с ума от зависти, потому что они устраивают мне отличный мальчишник. А когда Бритни уходит в уборную вся в слезах, потому что повар отказался вырезать для нее каноэ, мои так называемые друзья смотрят на меня и говорят: «Брат, она, конечно, офигенная телка, но мы думаем: она не обдолбанна?..»
Мои лучшие друзья спрашивают: «Ты ж еще на ней не женился, верно?» И судя по их лицам, они не радуются залету Брит. И... ну вы знаете, как это бывает. Всегда хочется, чтобы твои лучшие друзья и твоя невеста были в кайф друг другу, но мои друзья смотрят на меня с тревогой, сжав зубы: «Брат, а тебе не приходило в голову, что, может быть - только может быть! - Бритни умственно отсталая?»
А я говорю им: «Расслабьтесь! Она просто алкоголичка. Ну и я почти уверен, что она на героине, да. Ну, еще она сексуально распущенна, но с этим просто надо сходить к психотерапевту. Посмотрите на меня. Я толстый, никто не совершенен в этом мире. А может, вместо обычной свадьбы мы могли бы собрать обе наши семьи в конференц-зале отеля и удивить ее нашей заботой. Может, мы смогли бы убедить Бритни пойти на какую-нибудь 90-дневную программу реабилитации вместо медового месяца. Мы подумаем. Но она точно не отсталая. Ей просто нужно немного подлечиться».
Понятно же, что они ругают Бритни просто потому, что безумно завидуют, чертовы Ромео. Лишь только я их послушаю, они сами тут же займутся ей. Они говорят: «Брат, без обид, но ты трахнул дебилку», и это лишь доказывает, насколько я никому не нужен, если мне приходится вожжаться с такими говенными друзьями. У Брит, настаивают они, интеллект шестилетнего ребенка. Они думают, что делают мне одолжение, объясняя: «Она не может любить тебя, потому что у нее нет такой способности».
Ага, понятно: выйти за меня замуж может только жертва необратимого повреждения мозга. И я говорю им: «Она не может быть дебилкой, потому что, между нами говоря, она носит розовые трусики!» И это точно любовь, потому что каждый раз, когда мы вместе, я кончаю так, что потом живот болит. И как я уже сказал маминому бойфренду на День благодарения, у Бритни ни фига не атипичный чего-то там. В худшем случае она алкоголичка, наркоманка, нюхающая клей потаскушка, но мы отправим ее лечиться сразу после родов. И возможно, она нимфоманка, но тут важно, что она моя нимфоманка, и это заставляет мое семейство просто сходить с ума от зависти. Я им говорю: «Да, я влюбился в красивую сексуальную маньячку, так почему б вам просто за меня не порадоваться?»
И после всего этого на нашей свадьбе было куда меньше народу, чем мы ожидали.
Может, из-за того, что любовь, как говорят, слепа, но мне всегда казалось, что Брит довольно умненькая. Ну... вы знаете, как это бывает - когда вместе смотришь телик целый год, и ни разу не поспоришь о том, какую программу включить. Серьезно, если б вы знали, сколько мы смотрим телевизор, вы б назвали наш брак счастливым.
И теперь у меня две малышки, которые пахнут как пирожки на День благодарения. И когда они достаточно подрастут, я расскажу своим девочкам, что каждый похож на сумасшедшего, если вглядеться, а если ты не вглядываешься, то, значит, и не любишь по-настоящему. Жизнь крутится и вертится. И если ты будешь искать лучшее, ты никогда не найдешь любви, потому что лишь твоя любовь делает другого лучшим. И может быть, это я дебил, потому что я продолжаю бояться, что мое счастье кончится в тот самый момент, когда я начал им наслаждаться. Быть счастливым и безумно влюбленным не может быть так легко. И это полнейшее счастье не будет длиться до конца моей жизни, и со мной что-то не так, раз я так сильно люблю свою жену. Но прямо сейчас я везу свою новую семью домой из больницы, моя красавица жена сидит рядом со мной, а наши двойняшки в безопасности на заднем сиденье. И я продолжаю переживать, что такое счастье не может быть вечным, когда Бритни вопит: «Жучок!» - и бьет меня кулачком в плечо так сильно, что я чуть не въезжаю в придорожную закусочную.
Сообщение изменено: Lexxx (09 октября 2011 - 09:51)
#87

 Отправлено 02 ноября 2011 - 10:11
Отправлено 02 ноября 2011 - 10:11

Сидящий медленно закрыл книгу. Глаз он не поднимал. — Эмансипор, подайте вина мне и моему гостю.
Лакей развернулся, увидел Быстрого Бена. — Дыханье Худа! Откуда этот вышел!?
— У стен есть уши, глаза и все остальное. Занимайтесь своим делом, Эмансипор. — Наконец-то человек поднял голову и встретил взгляд Бена.
Глаза, как у ящерицы. Ну, я никогда прежде такого не боялся, так зачем начинать? — Вино — это превосходно! — сказал Быстрый Бен на дару.
— Какого-нибудь… цветочного, — добавил некромант, когда лакей направился боковой двери.
Вона на каминной доске остановилась и поглядела на мага, склонив голову набок. Через несколько секунд ее маятникообразное хождение возобновилось.
— Прошу, садитесь. Мое имя Бочелен.
— Быстрый Бен. — Колдун подошел к плюшевому креслу напротив некроманта и уселся. Тот вздохнул: — Интересное имя. Весьма впору, насколько я могу судить. Увернуться от атаки Сиринфа… я думаю, он напал, как только вы освободили его?
— Умно, — согласился Быстрый Бен. — Вы прицепили к ошейнику тайное заклинание, убивающее любого, кто снимет цепь. Полагаю, кроме вас самого.
— Я никогда не освобождаю демонов, — ответил Бочелен.
— Никогда?
— Любое исключение в чарах ослабляет их. Я такого не позволяю.
— Бедные демоны!
Бочелен пожал плечами: — Я не сочувствую обычным орудиям. Разве вы оплакиваете кинжал, если он сломается в чьей-то спине?
— В зависимости от того, умер ли ублюдок или только разъярился.
— Ах, но тогда вы оплакиваете себя самого.
— Я пошутил.
Бочелен молча воздел тонкую бровь.
Последовавшее молчание было нарушено возвратившимся Эмансипором. Он притащил поднос с запыленной бутылкой и двумя хрустальными кубками.
— А для себя стакан не взяли? — спросил некромант. — Разве я такой уж анти- эгалитарианец, Эмансипор?
— Гм… я сделал большой глоток в погребе, хозяин.
— Да ну?
— Чтобы убедиться, что оно цветочное.
— И оно?
— Не уверен. Возможно. Что такое 'цветочное'?
— Гмм… думаю, надо продолжить ваше образование в столь тонких предметах. 'Цветочное' есть противоположность 'деревянистому'. Иными словами, не память о горьком соке, но нечто сладкое, как нарциссы или череповенчик…
— Это же ядовитые цветы, — сказал Быстрый Бен в легкой тревоге.
— Но милые и сладостные на вид, а? Полагаю, никто из нас не имеет обыкновения есть цветы — я просто предлагал дорогому Эмансипору зрительные аналогии.
— А, понял.
— Так вот, Эмансипор, пока вы не разлили по бокалам. Было послевкусие горьким или сладким?
— Э, какое-то густое, хозяин. Вроде железа.
Бочелен встал и взял бутылку. Поднес к глазам, понюхал из горлышка. — Идиот, это же кровь из коллекции Корбала Броча. Не тот ряд, а противоположный. Неси обратно в погреб.
Вытянутое лицо Эмансипора стало пергаментно — белым. — Кровь? Чья?
— А это имеет значение?
Эмансипор хватал ртом воздух. Быстрый Бен откашлялся и сказал: — Для вашего слуги, похоже, ответ будет скорее 'да', чем 'нет'.
Ворона каркнула, склонила голову.
Колени лакея ослабли. Кубки на подносе зазвенели друг о дружку.
Бочелен нахмурился, снова понюхал бутылку. — Ну, — сказал он, возвращая ее на поднос, — не меня надо спрашивать, но думаю, это кровь девственницы.
Быстрому Бену оставалось только спросить: — Как вы дагадались?
Бочелен разглядывал его, высок подняв брови. — Ну как же, она деревянистая.
#88

 Отправлено 25 июля 2012 - 11:10
Отправлено 25 июля 2012 - 11:10

Пауль Госсен, Сергей Чекмаев
Спамелла
- Памела? - переспросил он.
- Спамелла, - поправила она.
- Дурацкий ник.
- А мне нравится.
Спамелла стояла на фоне заката - юная, голая, с тяжелым лазерным карабином на плече - и смотрела в виртуальную даль. Ремень винтовки лениво покачивался, изредка прикрывая правую грудь.
Он поймал себя на том, что засмотрелся. Недовольно хмыкнул и повторил:
- Дурацкий ник.
- Да пошел ты... - Спамелла смерила его оценивающим взглядом. На нем красовались ковбойская шляпа, кожаная куртка с бахромой и черные, тупоносые казаки. - Сам-то ты кто? Неуловимый Джо?
- Я Последний Изгой, - ответил он с вызовом.
- Красивый ник, - Спамелла улыбнулась.
- Дура, - он сплюнул. - Это не ник, это - судьба.
- Вот и познакомились... - груди Спамеллы колыхнулись.
Они помолчали.
- Черствый ты, - неожиданно сказала она. - Нет чтобы подарить девушке немного любви и тепла.
- А-а?.. - короткое мгновение Последний Изгой боролся с искушением, потом сдался. - Ну, это... давай.
Спамелла закинула винтовку за спину и прижалась к нему.
- Изгой, у тебя ширинки нет.
- Как нет? - он поискал: ширинки действительно не было.
- Программная ошибка, - догадалась Спамелла. - Ты, наверное, со стандартным набором в Игру вошел...
- Да я как-то не подумал... Что будем делать?
- У тебя нож есть?
Нож был. Спамелла умело и быстро вспорола брюки, Изгой не успел даже испугаться.
- Было классно, - услышал он чуть позже. - Ты такой... такой...
- Да ладно... - не поверил Изгой.
- Правда, - сказала она. - Пошли, что ли?
* * *
Солнце село. Спамелла и Последний Изгой шли по темным улицам заброшенного города строго на запад. Они почти не прятались. Ориентировались на перекрестках, где светились огромные плакаты, рекламирующие сигареты, выпивку и прочие радости реальной жизни. Прищурив левый глаз, можно было разглядеть игровые опции - компас, часы, количество противников и приблизительное расстояние до них.
Противники были далеко. Лишь однажды прямо на них выскочил небритый крепыш в драном камуфляже. Последний Изгой по-ковбойски выпалил с бедра. Игрок схватился за подстреленное плечо, упал на колени и попытался отползти за угол. Спамелла добила его в самый последний момент.
- Быстро стреляешь, - заметила она. - Только пушки твои не очень, такими с одного раза не убьешь. Ну, понятно, - стандартный набор...
- А что, - удивленно спросил Изгой, - можно было чего-нибудь помощнее взять? Я в меню не заметил...
- Вот я и говорю - стандарт, то есть самое простое оружие в Игре, зато подходящее по антуражу. В расширенных опциях можно хоть ракетомет выбрать.
- Да ну? - не поверил Изгой.
- Запросто. Только что бы ты с ним делал, попав на какой-нибудь водный уровень или в мир фэнтези? Первые пять минут, понятное дело, был бы там круче всех, а потом - что? Заряды не вечные, а новых взять неоткуда.
Последний Изгой внимательно рассмотрел свои пистолеты, засунул за пояс.
- А это, - он кивнул на винтовку в руках Спамеллы, - откуда?
- Это надо заработать. Ты в Игре часто бываешь?
- В этой, - Последний Изгой выдержал паузу, - в первый раз.
- Надо же! Новичок, значит, - она улыбнулась. - А я в Игре уже восемь месяцев. И знаешь... Мне нравится быть в паре с новичками.
- Почему?
- Так, - сказала Спамелла.
Изгою ответ не понравился.
- И часто ты побеждаешь?
- Всегда.
- Что?
- У меня в Игре свои интересы.
Она подошла к убитому игроку, ногой перевернула труп на бок.
- Зачем он тебе? - спросил Изгой.
- Смотрю, может, у него найдется чего-нибудь полезное... А!
Разжав цепкие, еще теплые пальцы, Спамелла выдернула из руки крепыша гауссовку. Указатель зарядов стоял на нуле.
- Проклятье!
- Ну что?.. Нашла? - Изгой стоял за ее плечом.
- Гауссовка. Мощная штука и бьет далеко, только зарядов нет.
- Возьмем с собой, - предложил он. - Пригодится. Может, заряды найдем.
- Не найдем. - Спамелла отшвырнула оружие в сторону. - Пушка дорогая и редкая. Кто с ней ходит, тот играет не меньше года. Ни мне, ни, тем более, тебе с таким не тягаться. Не знаю, почему этот подставился, обычно старожила так просто не возьмешь.
В карманах крепыша ничего полезного не нашлось - несколько стреляных обойм и такой же нож, как у Изгоя, только в пятнах засохшей крови.
- Ничего, - Спамелла брезгливо отряхнула руки, поднялась с колен. - Пошли?
Через час они вышли на площадь, заваленную искореженными автомобилями. Автомобилей было штук сто, а может, двести. Недавно здесь стреляли, на стенах и на асфальте чернели выжженные полосы. Последний Изгой присвистнул:
- Это что - автокатастрофа века?
- Скорее, свалка, для антуража. Не ищи логику - ее здесь нет, на то она и Игра. - Спамелла огляделась. - Пройдем справа, там завал вроде не такой высокий.
- Ты знаешь этот уровень?
- Нет, конфигурация всегда меняется.
- Хочешь сказать, в прошлый раз улицы были другие?
- Не то слово. В прошлый раз была космическая станция-зоопарк, в позапрошлый - архипелаг, заселенный дикарями...
- А сейчас?
- Глянь сценарий. Главное меню, опция "Брифинг".
Изгой прищурился.
- Город Зомби... Ага, это мертвецы такие синюшные. И где они?
- Отсиживаются в подвалах или еще где-нибудь. Думаю, вылезут позже.
- Мертвяки? Они же тормоза! Пока подойдут - всех перестреляем, - Изгой лихо прокрутил на пальцах лазерные пистолеты, хмыкнул. - Чушь собачья.
- Чушь, - согласилась Спамелла. - Это на любителя.
- Ну, хорошо, - Изгой весело смотрел на нее. - А куда мы вообще идем?
- Все время на запад. Победит тот, кто найдет Золотой Шар.
- Что за Золотой Шар? - спросил он. - Как выглядит?
- Блестящий и круглый, - Спамелла первая полезла через завал, винтовка на спине смачно хлопнула стволом по упругой попе.
- Однако, как тут все прорисовано, - сказал Последний Изгой.
- Если повезет, и ты найдешь микроскоп, - донесся приглушенный голос Спамеллы, - то сможешь разглядеть даже молекулы.
- Да ты что...
И он полез следом.
* * *
В первый раз их обстреляли около двух ночи. Били издалека, причем не особенно прицельно. Плазменный шнур сжег покосившуюся афишную тумбу за спиной. Спамелла и Последний Изгой моментально залегли и ползком убрались с опасного места.
- Уф, - сказал он шепотом, - серьезный парень.
- А ты что думал? Не боись, мы ему не нужны.
- Как это?
- Это просто приманка. Для особо жадных. Плазмоган - самая мощная пушка в Игре, только тяжелая очень. С ней особо не побегаешь. Вот и сидит стрелок где-нибудь на чердаке - к люку газовая граната привязана - и палит в белый свет, ждет, пока со всех сторон к нему сбегутся желающие поиметь плазмоган. Тогда начнется потеха.
Действительно, плазменный шнур больше не жарил асфальт, а минут через двадцать откуда-то с севера донеслись звуки ожесточенной перестрелки.
Они прищурились на ближайший плакат: число противников с каждой секундой уменьшалось.
- Видишь?
Изгой кивнул.
- Ладно, пошли, пока они там заняты. Только в полный рост не поднимайся.
Далекая перестрелка затихла не скоро, Последний Изгой и Спамелла успели пройти не меньше двух кварталов. Изгой все время нервно оглядывался.
- Это еще что! - Спамелла прислонила винтовку к стене, присела на корточки. - Самое веселье будет, когда зомби полезут...
Лазерный заряд, посланный откуда-то сверху, сбил Последнего Изгоя с ног. Он ударился о мостовую и покатился в сторону. Спамелла уже стреляла, перебегала с места на место, снова стреляла. Лазерные плюхи с шипением врезались в асфальт рядом с ней.
Очухавшись, Изгой пару раз пальнул наугад в темноту, попытался прицелиться, но в этот момент Спамелла неожиданно опустила винтовку.
- Попала, - она прищурила глаз. - Точно, одним меньше. Как ты?
Он поднялся.
- Уровень здоровья: 80%.
- Хорошо отделался. Давай в тот подъезд.
В подъезде сразу же вспыхнул свет.
- Четвертый этаж, - Спамелла на ходу перезаряжала винтовку. - Бежим!
Нужная дверь была закрыта. Изгой со всей силы саданул по ней сапогом и, выставив перед собой пистолеты, ворвался в квартиру.
Противник лежал возле окна, навалившись животом на остатки рамы. В его груди зияла сквозная дырка величиной с кулак.
- Готов, - Изгой обернулся к Спамелле. - Лихо ты его.
Она нагнулась, рассматривая лицо.
- Какие люди!
- Ты его знаешь?
- Еще бы. Король-Пожарник!
- Ну и ник!
- Не хуже твоего.
Изгой хмыкнул.
- И ты с ним тоже?.. Ну... немного любви и тепла?
- Может, и так. Мы были в паре, три месяца назад. Скучный он. Скучный и ленивый...
Он сплюнул.
- А почему мы его прозевали?
- Он где-то раздобыл хут.
- Что?
- Хут, шапка-невидимка... - она указала на валяющуюся под ногами фуражку. - Когда ты в ней, радар тебя не показывает...
Вдруг Спамелла схватила Последнего Изгоя за руку:
- Смотри!
Мускулистый торс Короля-Пожарника обхватывала крепкая на вид цепочка. Другой конец был прикован к батарее.
- Делаем ноги! - шепнула она. - Быстро!.. - и тут на лестничной площадке загремели шаги.
- Бросайте оружие! Руки за голову! - голос был молодой, женский. - И без шуток! Если что - пустим газ.
- Влипли, - Спамелла швырнула в дверной проем винтовку.
- Влипли, - согласился Изгой, и следом полетели его пистолеты.
Противниц было двое - белобрысые, коротко стриженые девушки-подростки, похожие друг на друга, как близнецы. Различались только надписи на майках: у первой крупно было написано "Дискотека Люфт", у второй - "Фабрика мягкой игрушки Саливана". "Дискотека" сразу же пнула Последнего Изгоя в пах, и пока он скулил и катался по полу, отцепила цепочку с трупа и приковала Изгоя к батарее. Потом протянула винтовку:
- Увидишь кого-нибудь из окна - стреляй. Ну... И без глупостей!
Он взял оружие. "Мягкая Игрушка" сорвала с Изгоя ковбойскую шляпу и натянула ему на макушку хут. Последний Изгой исчез.
Спамелле залепили скотчем ресницы, чтобы не смогла закрыть глаза, войти в опции и сбежать из Игры. Потом саданули прикладом в живот.
- Как зовут? - ноготки "Дискотеки" впились в шею.
- Спамелла.
"Дискотека" плюнула ей в рот.
- Четче!
- Спаа-меел-лаа.
Теперь плюнула 'Мягкая Игрушка'.
- Смотри сюда, Спаа-меел-лаа, - "Дискотека" вытащила из воздуха яркий проспект, ткнула его Спамелле в подбородок. - Это бланк годовой подписки на "Монитор Супер". 12 номеров журнала всего за 24 бакса. Плюс бесплатный DVD в каждом номере. Вариант первый: ты подписываешь бланк, получаешь в качестве прощального подарка свою винтовку, без зарядов, правда, и спокойно уматываешь за Золотым Шаром. Вариант второй: ты отказываешься, тогда мы суем тебя головой в унитаз и долго спускаем воду. Ну?
- Отличный журнал! - голос у Спамеллы был сдавленный, но звучал уверенно. - Давно хотела подписаться. Только вот незадача: я неграмотная.
- Твои проблемы, - на этот раз когти "Дискотеки" нацелились в глаза. - Ну?
Тут Последний Изгой наконец-то оценил преимущество своей невидимости. Осторожно, чтобы не звякнула цепочка, он прицелился в голову "Дискотеки" и спустил курок. С глухим стуком на пол вывалился пустой магазин, предупредительно пискнул индикатор перезарядки. Противницы подстраховались, и винтовка оказалась незаряженной. В следующее мгновение "Мягкая Игрушка" сбила с Последнего Изгоя хут и согнула неудачливого стрелка пинком в грудь. "Дискотека" тоже оказалась рядом и сложенными в замок руками ударила Последнего Изгоя по затылку. Он рухнул на пол, уровень жизни снизился до 40%.
Наверняка его бы долго пинали, а потом заставили подписаться на два, а то и три годовых комплекта столь необходимого в реальной жизни журнала "Монитор Супер", но тут вмешалась забытая на время Спамелла. Пнув "Мягкую Игрушку" в коленную чашечку, она толкнула противницу в сторону. "Игрушка" взвыла и повалилась на пол. "Дискотека" едва успела обернуться на звук, как Спамелла вцепилась зубами ей в ухо и откусила. "Дискотека" взвизгнула и, зажав кровоточащую рану, упала на колени. Пришедший в себя Изгой наставил на нее пистолет. Спамелла наклонилась к "Мягкой Игрушке" и выплюнула ухо. С ее подбородка на голую грудь стекала кровь.
- Иди сюда, - сказала она. - Я тебе нос откушу.
"Мягкая Игрушка" охнула, прищурилась и вышла из Игры.
* * *
Они залепили "Дискотеке" ресницы, связали за спиной руки и погнали перед собой по ночной улице. Незадачливая противница громко стонала.
- Зачем она нам? - Последний Изгой вертел в руках пистолеты. - Выстрел в затылок - и одним противником меньше.
- Пригодится еще... - Спамелла заглянула в опции. - Золотой Шар совсем рядом - километра два, не больше. С каждым шагом вокруг будет становиться все больше желающих урвать у нас победу. Пусть поработает приманкой. Сам видел, как это действует.
Изгой ощупал набухающий желвак на затылке и спросил:
- Много врагов осталось?
- Да не так чтобы очень. Перебили друг друга. Наш друг с плазмоганом постарался.
У Последнего Изгоя сразу же поднялось настроение. Он сунул пистолеты в карманы и поймал Спамеллу за податливое бедро. Она улыбнулась.
Тут земля у них под ногами дрогнула и ушла в сторону. Последний Изгой рухнул лицом на асфальт, разодрал щеку. Перекатиться не успел - Спамелла упала сверху.
- Что это было? Землетрясение? - он сидел на тротуаре и размазывал по лицу кровь и грязь. От его уровня жизни осталось 3%.
- Я же предупреждала, - Спамелла уже стояла на ногах и целилась куда-то в темноту. - Зомби.
- Где? - он вскочил и сразу увидел.
Из канализационных люков, из подворотен, просто из темных углов медленно растекался нескончаемый поток. Зомби были классические, словно из фильмов Джорджа Ромеро: драные, не первой свежести мертвяки шли, выставив перед собой руки, натыкались друг на друга, иногда падали, поднимались и снова шли вперед. Мужчины и женщины, старики и совсем дети.
Спамелла выстрелила. Обезглавленное тело ближайшего мертвяка беззвучно рухнуло на мостовую. Остальных это не остановило, толпа продолжала целенаправленное движение. Последний Изгой оглянулся, пытаясь обнаружить путь к отступлению, но позади из полумрака тоже медленно надвигались раскачивающиеся тени. Он выстрелил раз, другой - безрезультатно.
- В голову целься, - крикнула Спамелла и уложила второго зомби, - иначе их не возьмешь.
Последний Изгой в ответ меткими выстрелами свалил сразу двух зомби. Пистолеты плясали у него в руках. Развернувшись на каблуках, Изгой срезал еще одного, подобравшегося слишком близко. Остро завоняло жженым мясом.
- Неплохо, - оценила Спамелла, выцеливая новую жертву.
- Уходить надо! - крикнул в ответ Изгой. - Их слишком много! На всех зарядов не хватит.
Спамелла согласно кивнула, вышибла мозги ближайшему зомби и огляделась.
Слева обнаружился узкий переулок, но его вот-вот должны были перекрыть нападающие. И тут впереди отчаянно завизжала "Дискотека". Вскочив с тротуара, она заметалась по улице - мертвяки, смешавшись, двинулись на нее. Изгой и Спамелла на время получили передышку.
- Бежим, - крикнул Последний Изгой. - Ну!
Спамелла прицелилась и разнесла голову еще одному зомби.
- Бежим.
Некоторое время они бежали по параллельной улице, потом наткнулись на чьи-то обглоданные останки и снова свернули, потом еще и еще. Откуда-то со стороны доносились скупые выстрелы, кто-то еще сражался с мертвецами. Потом прекратились и они.
Последний Изгой и Спамелла остались в Игре одни.
- Главное - не терять ориентир, - выдохнула она. - Нам все время на запад.
- Они что, каннибалы? - Последний Изгой стрелял с двух рук по надвигающимся теням практически без остановки. Мертвецы валились с ног десятками, но на их место тут же вставали новые.
- Ага.
- А почему ожили? Ты читала сценарий?
- Пустое дело, - сказала она. - Я же говорила - не ищи логику, в Игре ее нет.
- Так уж и нет?
- Целься лучше, стреляй чаще, повезет - останешься живым, - она перезарядила винтовку. - Вот и вся логика... Вообще-то, все мертвяки - это когда-то погибшие игроки. Сколько раз погиб - столько твоих копий сейчас в Игре... Черт, заряды кончаются!
Мертвяки были везде. Сколько ни стреляй - меньше их не становилось. У Спамеллы кончились заряды, она прикрывала Последнему Изгою спину, отбиваясь прикладом винтовки. Изгой скупо расстреливал обойму за обоймой, экономя заряды. Один пистолет у него уже опустел. Наконец их зажали возле большого дома. Двери подъездов оказались закрыты, но на первом этаже ярко светились витрины виртуальных магазинов. Спамелла потянула Последнего Изгоя к ближайшему. Они вбежали внутрь, захлопнули дверь перед самым носом у переднего зомби. Изгой подтащил тяжелую тумбу, забаррикадировал дверь. Мертвяки, наткнувшись на неожиданную преграду, остановились.
Изгой огляделся. Магазин был оружейным. Винтовки, пистолеты, базуки, гранаты на любой вкус. Также имелась аптечка, повышающая уровень жизни.
- А продавца нет, - сказал Последний Изгой. - Похоже, что весь товар наш.
Улыбаясь, он открыл аптечку и выругался. Коробочка с красным крестом оказалась пуста.
- Все немного сложнее, - Спамелла забралась на прилавок, села, поджав коленки к подбородку. - Хочешь что-нибудь взять - закажи товар в магазине. Для реала. Тренажер какой-нибудь, овощерезку, надувную кровать... Виртуальные изделия идут как бесплатный бонус. Суешь кредитную карточку в кассовый аппарат, адрес пишешь в товарной книге. Во-он там, - она указала пальцем куда-то на стену, - висит прайс-лист.
Изгой пробежал глазами строчки. Чтобы получить аптечку, следовало сделать заказ на 45 баксов, винтовку - на 100. Даже дополнительные обоймы стоили по 20-25 долларов. Дороже всего ценилась базука.
- Базука - 250 баксов! Однако тут расценки... - скривился Последний Изгой.
- Мы в двух шагах от Шара, - сказала Спамелла, - потому и цены подскочили. Если помнишь, подписка на журнал стоила всего 24.
- Это что, такая форма заработка?
- Ну да, - кивнула Спамелла. - Девчонки на подписке делают до сорока процентов. Чем больше продадут, тем больше получат. Вот и изгаляются.
- Значит, придется что-то купить, у меня всего 3%, - напомнил Изгой. Аптечку он все еще держал в руках.
- Да погоди ты, - Спамелла соскочила с прилавка и притянула Последнего Изгоя к себе. - У меня уровень жизни - 82%, отделалась царапинами. Я тебе сейчас половину скачаю. Только не дергайся, - и она впилась в его губы.
Они стояли долго, минут двадцать, потом она отстранилась.
- Надо идти.
Он нехотя отпустил ее плечи. Его уровень жизни был 50%, ее 35%.
- Думаешь, прорвемся? - Изгой кивнул на мертвяков, подпирающих стеклянную дверь. Не меньше полусотни зомби бесцельно бродили вокруг.
- Прорвемся, - кивнула Спамелла. - Вышибем витрину и уйдем.
- Тогда посторонись, - он с натугой сорвал кассовый аппарат и швырнул его в стекло. Зомби шарахнулись в стороны.
* * *
Последний Изгой сидел возле Золотого Шара и смотрел в утреннее небо. Спамелла стояла в двух шагах - коленки разодраны, грудь исцарапана. Ее винтовка валялась на земле. Сражаться было не с кем - до цели дошли только они. Зомби сгинули, противников, как показывало табло, больше не осталось.
Золотой Шар они нашли в здании какого-то управления, заваленного стопками совершенно чистой бумаги, и выкатили во двор.
- Виртуальный Клондайк, - усмехнулся Изгой. - Забрать бы с собой.
- Это вряд ли... - Спамелла пожала плечами. - Просто по почте придут карточки, подтверждающие, что мы прошли Игру. Красивые такие, голографические. Потом пара-тройка виртуальных супермаркетов наградят дисконтными картами, может, еще предложат куда-нибудь съездить со скидкой. В Египет, например, или на Кипр. Ты когда-нибудь был на Кипре?..
- И все? - удивился он.
- А ты что хотел? "Мерседес"? - она улыбнулась. - Играй в лотерею!
- Ну, все-таки... - сказал он. - Что дальше?
- Да ничего. Надо приложить ладонь к Золотому Шару, назвать свой ник - и ты победитель.
- Конец Игре? - спросил Последний Изгой.
- Ну да. Что еще?
- Слушай, - сказал он, - а что если нам прежде это... ну... немного любви и тепла?
Спамелла решительно шагнула вперед, прижалась к нему бедром.
- Почему бы и нет? - она улыбнулась. - Только, Изгой... понимаешь, я тоже немного подрабатываю. Первый раз - это было так, в качестве рекламы, а сейчас... - в ее руке появилась пачка синих бумажек; развернув их веером, она попыталась прикрыть наготу. - Купишь десять лотерейных билетов по пять баксов, а? Разыгрываются два "Мерседеса" и кругосветка...
Спамелла не договорила. Луч лазера снес ей голову - тело упало к ногам Последнего Изгоя, лотерейные билеты, подхваченные ветром, полетели прочь. Он отшвырнул в сторону последний, теперь уже ненужный пистолет, достал из кармана звезду шерифа и, приложив ее к Золотому Шару, зафиксировал факт уничтожения несанкционированного спама на четырнадцатом подуровне Игры. В конце месяца можно было ждать премиальных.
#89

 Отправлено 01 февраля 2013 - 11:19
Отправлено 01 февраля 2013 - 11:19

Дурак в поход собрался
Клиффорд Саймак
#90

 Отправлено 08 февраля 2013 - 08:47
Отправлено 08 февраля 2013 - 08:47

------------------------------------------------------------------------
*...ИАКОВ И МАРК...*
*(Притча из книги “Передайте привет Руфу”)*
В тех местах, куда направили Иакова и Марка, доходы Церкви неудержимо
падали. Местное духовенство, как всегда и как везде, отговаривалось
нищетой народа, мором скота, постоянным неурожаем и всеми мыслимыми и
немыслимыми несчастьями, обрушившимися именно на их епархию. Но высшее
начальство подозревало, что недостоина – верный призрак ереси, тем более
что в их городе в прошлом месяце задержали отступника: дело не такое уж
значительное, но все же...
Церковь призвана бороться – ни ересь, ни падение доходов недопустимы. Но
известно: как только наступали времена потруднее, Церковь вечно не могла
справиться собственными силами. Поэтому и послали двух молодых, но уже
проверенных в послушании монахов, Иакова и Марка, незаметно вызнать, в
чем же дело, и прислушаться, о чем говорят люди. По мере надобности
инокам должна была оказать необходимую помощь *Святая **Инквизиция*.
Молодые люди умели ценить доверие и молились о благословении, чтобы
исполнить все безукоризненно: в случае успеха Орден доверил бы им более
важное. А это все: и почет, и уважение, и приближение к Господу. И это
было бы справедливо: уж восемь лет они постом, молитвой и неустанными
трудами живут в безоговорочном подчинении старшим духовным братьям,
обретая столь важный для инока навык духовного послушания и возрастая в
вере. Да, уже без малого восемь лет минуло с тех пор, как они постучали
в ворота монастыря. В тот год неурожаи да мор обезлюдили их городок, и
он в своей тишине и унынии походил более на странной формы склеп, чем на
обиталище живых людей. Лучше постричься в монахи, чем умереть, решили
они тогда, хоть и молодые, но уже искушенные горем люди. Кроме того,
пострижение – дело Божье и угодно Церкви.
Нареченные Марк и Иаков были не просто из одного города, но с одной
улицы, они и лицом были схожи, одного роста, и когда шли рядом, всегда
шагали в ногу...
Мерные звуки колокола с центральной площади застали Иакова и Марка на
постоялом дворе. Они только собирались приступить к трапезе. Время было
неподходящее – солнце уже давно поднялось. В последние дни они вставали
поздно, но не от лени или каких-либо скверных привычек, а потому, что в
любом месте, в любом селении, где они останавливались, они делились
своим духовным богатством, рассказывали о спасающей силе Церкви, учили
смирению и верности Господу.
Слушателей находилось всегда. Восхищенные ученостью странствующих
монахов, их скромностью и благочестивым видом, люди не отпускали их
допоздна. Вопросы бывали самые разные и приходилось отвечать
обстоятельно, потому что даже те, кто редко пропускал воскресные
богослужения, не понимая латынь, не знали практически ничего, кроме
устройства храма, порядка богослужения и исчисления дней по церковным
праздникам. Даже сведения о святых, избранных ими в свои покровители,
были отрывочны, церковным книгам не соответствовали.
Фантазии несведущих прихожан принимали самые причудливые формы. Впрочем
– и этим Иаков не забывал поинтересоваться – самое главное для спасения
люди принимали: Церкви они были верны безоговорочно.
Вот из-за этих важнейших дел спасения и не ложились спать монахи до тех
пор, пока накопившаяся за день усталость и выпитое вино не смежали глаза
и им, и слушателям. Монахи не торопили события: именно в эти минуты
языки собеседников и развязывались. Люди ведь хитры и осторожны...
Так было и вчера.
Рано утром друзей будил хозяин постоялого двора, который, казалось,
никогда не спал. Они шли в ближайший храм на службу: исполняли взятый на
себя в Рождество обет послушания – в течение всего года на заре
пятьдесят раз читать молитву Господню – и возвращались досыпать.
– Ничего, успеем, прислушиваясь к металлическим ударам колокола, сказал
Иаков. Он не спеша сел за стол и начал есть. День сегодня был особенный,
и особенный во многих отношениях.
Во-первых, воскресенье, что само по себе создавало праздничное
настроение. Кроме того, отмечался день поминовения святого,
покровительствующего кафедральному собору, и, следовательно, всему
городу. Городской совет, желая придать этому дню особую торжественность
и святость (не без подсказки епископа, разумеется), назначил на этот
день аутодафе, акт веры, над попавшимся не так давно еретиком.
Приговоренного к смерти странствующего проповедника уже совсем,
казалось, уничтоженной секты вальденсов должны были предать очищающему
огню. Двенадцать столетий одним только существованием своим вальденсы,
пусть и немногочисленные, давали повод к сомнению в непререкаемости
авторитета римской церкви. Не столь давние события в горах, думалось,
исправили положение – ан нет, затруднения, видимо, удел вечный.
Тройной праздник взбудоражил город. Такое случалось не часто, а тем
более с тех пор, как *Святая **Инквизиция* лет сорок назад основательно
почистила окрестности города. Старожилы с удовольствием вспоминали те
благодатные для веры времена, когда одновременно сжигали десятки этих
нелюдей, еретиков, и настолько часто, что даже самые непоседливые
мальчишки утратили к казням всякий интерес и перестали бегать на
площадь, когда там начинал звонить колокол. Время то прошло, немногое
изменилось, хотя в городе и появились новые красивые дома, неоднократно
менялся свет и трижды сменяли епископа. О прежнем редко кто вспоминал,
разве что особо ревностные прихожане, расположившись за кружкой пива,
толковали об отщепенцах, но безотносительно к своему городу, тем
проявляя равнодушие к делам веры. А тогда, в добрые старые времена,
особенно в начале следствия, каждый новый костер радовал людей как
напоминание о вышней справедливости и неусыпной заботе святых отцов и
отцов города.
Без многого могут обойтись люди, многое перетерпеть, но лишь до тех пор,
пока уверены, что справедливость торжествует, а Власть – ее орудие...
Есть справедливость – и они готовы простить любые тяготы, налагаемые на
них отцами, будь то города или церкви. Но зло вездесуще, и люди порой
начинают сомневаться, и во все времена даже самые недалекие правители
знали это человеческое свойство – потребность в справедливости, умело
приносили жертву и тем завоевывали любовь и поклонение народа, во всяком
случае, абсолютного его большинства. Хитрость тут невелика – все должно
быть сделано как можно солидней и обстоятельней. Справедливость – дело
серьезное и пренебрежения не терпит...
Ощущение праздника поселилось в Иакове еще вчера, когда он рассказывал
об Агнце Божьем, о Церкви и о святых. Вдохновение снизошло на него – так
верил и он, и все слушавшие его. Речь его лилась легко и свободно, и он
радостно удивлялся, но и принимал как должное, что он таким возвышенным
чувством рассказывал о тех мучениях плоти, которым подвергали себя люди,
вставшие на путь приближения к своему Господу, о том, как эти подвижники
ежедневно бичевали себя в скромных кельях, как ночи напролет лежали
перед иконами Пречистой Девы, зная что когда-нибудь она замолвит слово и
за них. Слушатели умилялись до слез и не скупились на угощение, а Иаков
был счастлив, что и он участвует в деле приготовления людей к вечности.
Акт веры... Иаков не раз присутствовал при этих сценах справедливого
возмездия, но тем не менее он всегда стремился побывать на всех
доступных для него казнях, на этих таинствах очищения скверны огнем,
освящаемых достойнейшими, наиболее духовными пастырями. Ему нравилась та
обостренность чувств, которую он обретал, стоя на площади перед
помостом, когда вокруг, сплотившись, плечом к плечу стояли все свои,
братья по вере: и духовного звания, и верные горожане – братья
вселенской церкви. Лишь безнравственные отсиживались дома, отговариваясь
немощью, а на деле не желали возрастать в благодати: захотели бы – и
пришли. Да еще сребролюбие – никак не могут насытить свою мошну. Что им
божественное...
Иаков в минуты, когда затихали все, весь превращался в зрение. Когда
пастыри проникновенно обращались к народу со словом о Суде Божьем или о
Страстях Господних, – плакал, и все кругом тоже начинали утирать слезы.
И сопричастность с пришедшими на площадь, чувство единения с этими
людьми укрепляло в Иакове стремление служить им, нести истину о церкви,
помогать и облегчать им страдания, огнем выжигая ересь, ограждать
беспомощную, ни на что не способную и погрязшую в грехах паству от
опасных инакомыслящих.
А потом, когда свершалось, они пели! Вся площадь, как один человек,
отдавалась звукам христианского гимна. Можно ли передать словами
благодать, снисходившую на Иакова в эти минуты. Верность, верность – до
последней капли: исходило рыданьями его сердце. Такой же восторг он
испытывал и в келье на молитве, наедине с Господом. Любил он эти
священнодействия еще и потому, что в следующую ночь он всегда хорошо
спал, а весь следующий день проходил под знаком удачи.
Иаков поел и, видя, что Марк за ним не поспевает, первый ушел к месту казни.
Марку же на площадь идти не хотелось. С некоторых пор у него возникло –
как бы это сказать – внутреннее беспокойство, неудобство что ли или
просто несогласие, в котором он боялся признаться даже самому себе. Он и
не заметил, когда это несогласие в нем появилось. А с тех пор, как
изрядно разогретый вином секретарь инквизиционного трибунала поведал ему
о всех трудностях и тонкостях их работы, Марк и вовсе охладел к подобным
праздникам духа. Не то, чтобы он подозревал освященных рукоположением
духовных отцов в нечестности, но читая в монастырской библиотеке о веках
дохристианских, он видел, что люди с тех пор не изменились – и не мог не
задуматься... Подозревая за этим внутренним несогласием грех, он стал
много молиться об укреплении веры в Церковь, о возрастании в Боге, о
доверии и послушании пастырям, как же иначе? – ведь со времен самого
апостола Петра освящены они к обладанию истиной рукоположением через
праведников. Раз за разом повторял он молитву, подкрепляя ее постом,
пока не становилось легче, и – чувствовал благодать. Сомнения незаметно
исчезали и наступало особо благостное состояние безмыслия, чувство
причастности общему благородному делу, – непременно благородному! –
легкость от доверия к влекущим его пастырям. Он был благодарен святым
наставникам, научившим его молиться: без них бы он отпал, наверное,
увлекся бы какой-нибудь ересью, душа бы оскудела от бездуховности, а это
страшно...
Марк, не торопясь, доел. Сделал все, чтобы хоть как-то оттянуть время,
но совсем не идти на площадь он не имел права, могли заподозрить в
совершенно ему чуждом и донести. А разбирательство даже мельчайших
недоразумений в инквизиционном учреждении затягивалось обычно надолго,
выматывало всю душу и могло лечь пятном на всю жизнь. А донести мог
любой. Хотя бы тот же Иаков. Дружба дружбой, а в делах спасения все
должно быть строго.
Марк бесконечно уважал Иакова. Он уважал его за богатство и
многогранность души и прежде всего за ревность в служении Господу.
Немногие могли столь долго поститься и так посвященно простираться у
образа Богоматери. Конечно, все относительно. Марк читал о несравненно
больших подвигах и праведниках, но по сравнению с вымирающим от
безнравственности населением, увлеченным чем угодно, но не спасением, по
сравнению с монахами, пренебрегающими благочестием, Иаков казался Марку
образцом для подражания. Для Марка мнение Иакова было даже несколько
важнее, чем мнение отца настоятеля. Мысли эти иной раз пугали Марка: а
вдруг за ними не святость, а только дружба? Они дружили, оба ценили
дружбу, однако и с другом следует быть осторожным.
Он вышел на площадь, когда, видимо, все формальности уже были закончены.
Помост, столб с привязанным человеком – осужденный был по колено обложен
со всех сторон дровами и хворостом (хорошо не поскупились на дрова, а то
иной раз...) – все было как всегда... Рядом с осужденным стоял
священник, седая голова его благочестиво была склонена к сложенным для
молитвы рукам – кажется, он неспешно беседовал с привязанным человеком,
но о чем они говорили, Марк не слышал. Он поискал глазами Иакова и
быстро нашел. Как он и предполагал, тот не пошел ближе к месту казни,
где собрались прочие духовные лица, а скромно стоял в стороне,
молитвенно перебирая четки, – ждал. Марк улыбнулся: от внимания стало
тепло на душе.
“Что я в самом деле?” – подумал Марк и пошел к Иакову.
– Что так долго? Я уж было подумал: ты не придешь вовсе, – сказал Иаков,
вглядываясь в лицо брата. Видимо, он обратил внимание на неестественную
медлительность Марка.
– Да видишь – живот, – соврал Марк.– Видимо, хозяин – вот жулье, мне его
рожа сразу не понравилось! – подсунул что-то, чего сам никогда бы не
съел. А может, еще из-за чего? – А у тебя как? С животом все в порядке?
– У меня все в порядке, – облегченно вздохнув, кивнул Иаков. Пойдем
поближе. Негоже нам стоять среди вилланов...– он кивнул в сторону не
решавшихся подойти ближе к помосту селян.
– Стоит ли? – с сомнением спросил Марк, но спохватившись добавил, –
впрочем, пойдем. К тому же и не слышно ничего здесь.
– Да это сейчас только. Я думаю, начали исповедовать или в последний раз
уговаривают исповедаться и покаяться. Тут незадолго до тебя оглашали
обвинение, перечисляли прегрешения против церкви и Бога – так эхо в
стенах отдавалось. Даровал Господь глашатаю голос – вот он и горланит,
не зарывает свой талант.
Помолчал и добавил с усмешкой: – Каждому свое...
Они стали пробираться поближе к огороженному месту. Вилланы почтительно
расступались перед духовными лицами. Нигде монахи не чувствовали такого
почтительного уважения к себе, как в храме и на муниципальной площади во
время казни. На площади, пожалуй что, и больше, чем в храме. И Марку, и
Иакову это нравилось.
Они пробирались вперед до тех пор, пока не натолкнулись на сплошную
стену празднично одетых людей, жадно тянувшихся не пропустить ни одной
подробности. Даже на толчки в спину они не желали оборачиваться –
духовные сами виноваты: опоздали.
В это время исчезнувший было из виду священник появился вновь и склонил
к губам осужденного длинный жезл с укрепленным наверху металлическим
крестом. Как только крест коснулся губ обвисшего на цепях человека,
голова его, как будто отброшенная ударом, дернулась назад, он закричал –
нет, скорее закряхтел – и стал отплевываться.
– А-а-а-а, – загудела разом встревоженная толпа.– На крест плюет!..
Антихрист!.. Гадина!.. Еретик!..
Марк не кричал со всеми. Тот же подвыпивший секретарь трибунала,
жаловавшийся на тяготы службы, рассказал ему, как лицу духовному и,
следовательно, надежному, о секрете этого креста. Перед тем как поднести
крест к губам осужденного, его на несколько минут опускали в жаровню, от
которой затем зажигали очищающий огонь. Затем быстро, не давая кресту
остыть, дотрагивались до губ заблудшего. Непроизвольно человек начинал
дергаться и, спасая губы и язык, отплевывался. А если бы и увидели
вздувающиеся на губах волдыри, то это – лишь еще одно подтверждение
справедливости решения церкви и властей. Секретарь убеждал Марка, что
такие приемы просто необходимы во имя духовного здоровья народа, города,
страны, ибо ничто так не назидает, как зримый пример торжества
справедливости. К тому же и Бог, и папа это благословляют. А уж если и
случится, что осужденный на самом деле ни в чем ни виновен, то Господь
Своих знает. А делу Божьему польза: у скольких людей вера укрепится.
Цель оправдывает средства. Марк с ним не спорил.
А Иаков преобразился. Лицо его невольно растянулось в напряженной
улыбке, открывшей испорченные зубы. Но улыбку он тут же погасил,
смиренно склонил голову для молитвы: он молился Господу о благословении
заблудшего. Пальцы его особенно вдумчиво перебирали точеные шарики
четок. Но нет-нет, а улыбка радости ненароком выскальзывала и, как бы
устыдившись, упруго пряталась вновь. Марк был уверен, что не будь Иаков
в монашеском одеянии, он бы кричал вместе со всеми. Но он ошибался:
Иаков почти никогда не забывал, к чему он призван. И он знал про жаровню.
Марк вгляделся в лицо обвисшего на цепях человека. Где-то он видел его.
Но где? Мешала недельная щетина на лице еретика – самая безобразная из
всех возможных щетин. Что ж, оно и понятно: духовное уродство неизбежно
проявляется в лице... Свалявшиеся волосы этого немолодого человека
торчали в разные стороны из-под позорного колпака, делая его совсем
отталкивающим и как бы ненастоящим. Омерзительный, но и вызывающий
символ. Лицо человека совершенно бессмысленно, видимо, от греха и похоти.
А может от истощения: ведь допросы и пытки...
Чем больше Марк вглядывался в этого опозоренного старика, тем больше ему
становилось не по себе.
Но где же он его видел?
Стражник поднес жаровню с углями. Конец. Осужденный увидел ее, весь как
бы одеревенел, глаза его наполнились – чем? ужасом? – нет, решимостью,
он оторвался от цепей и закричал – и боль отдавалась толчками в
обезображенных губах:
– Люди! А-а! Иисус был здесь! А-а! Помогать и исцелять! О-о! Разве это
любовь – сжигать? А-а! Убойтесь Бога! Вас обманывают!
– Где же я его видел? – настойчиво билось в голове у Марка.– И слышал?
Толпа притихла. Ни горожане, ни духовные не ожидали, что старик в
колпаке заговорит, Ведь только что бессильно висел на цепях. Не ожидали
этого и служители инквизиции – иначе они бы заткнули ему рот. Но старик
казался настолько обессиленным после попыток дознающих исповедать его в
трибунале, что неожиданностей не предвиделось – потому и решили в
назидание пастве дать ему целование креста.
Отпрянувший было от крика стражник решительно сыпанул пылающие жаром
угли на хворост. Не рассчитал и высыпал разом все. Густо пошел дым, но
пламени не было, лишь отдельные отблески свидетельствовали, что тайна
очищения уже в действии. Монахи тоже пришли в себя и запели, чтобы
заглушить оскверняющие людей слова еретика.
Альменде – так на самом деле звали старика – лишь на мгновение посмотрел
на робкие еще проблески пламени и стал с надеждой вглядываться в
сплошную стену лиц. Он искал глазами того... Альменде понимал, что Бог
допускает расправу над ним не просто так, что казнь – это единственная
оставшаяся возможность пробудить к жизни кого-то из разглядывающих его
сейчас. Видимо, уже для того человека все возможные пути им же самим
затоптаны и осталось только одно: его, Альменде, такая вот смерть. Что
ж... Так было, так есть, так будет. Смерть первомученика Стефана была
возможностью для Савла. А может, и еще кому-нибудь из толпы? Альменде
пристально вглядывался в лица, и ему казалось, что если он распознает
оказавшегося здесь человека, то легче сможет найти нужные слова.
“Господи, кто же?”
Наконец, жарко занялся хворост в том месте, куда попало все содержимое
жаровни. Альменде чувствовал подбирающийся к босым ногам жар. Жар...
Испарина выступила на его лбу.
“Господи! Помоги мне!”
– Люди! А-а! Иисус...– вновь закричал Альменде, как будто и не было
поющих гимн монахов.– Благодатью! А-а! Не палачами с крестами! –
Осужденный поперхнулся жарким дымом.
“Где же я его видел? Где?”
– Человек! Небо! – мотнул колпаком куда-то Альменде – то ли вверх, то ли
вбок.– Вот оно!
– Хорошо брешет собака, – повернувшись к Марку, сказал, оскаливаясь,
Иаков.– Только путь-то ему на небо заказан. Без покаяния и отпущения
грехов нами, святыми отцами... Вне Церкви нет спасения!
Что это он вдруг себя святым отцом возомнил? – удивился Марк, но ничего
не сказал.
– Бог! А-а! есть любовь!
– Ведь как просто, – поеживаясь, видимо, от неприятного, старческого
голоса, сказал Иаков.– Вне Церкви нет спасения, куда проще. Последней
овце должно быть ясно. Со времен Христа... А как изощренно пытается
уязвить! – Иаков говорил взволнованно и страстно, но руки... пальцы
спокойно сливались с четками.– Из духовного звания что ли? Да куда там:
ограничен, слово путем сказать не может. Обрывки какие-то, наверное,
просто ленился – вот и воздаяние.
Стоявшие рядом прислушивались и согласно кивали.
На привязанном уже дымилась одежда.
– А-а! Люди! Слово – молитесь – получите! – старик вновь поперхнулся
дымом и закашлялся мучительно, по-старчески, и от этих судорожных
движений с него слетел шутовской колпак – символ отступничества.
Вот оно! Вспомнил! – Марк захлебнулся разом пришедшими воспоминаниями, и
сердце его сжалось от боли.– “Слово Божье по воле его в любых
обстоятельствах!” – так он тогда сказал. Ну, конечно же, – он! Только
вид у него тогда был совсем другой.
Тогда это был старец с благородной сединой, крепкий, несмотря на
возраст. И одежда на нем тогда была монашеская. Но не был он похож на
прочих монахов. Марк тогда сразу это почувствовал. Что было в нем
особенного? Непосредственность в поведении, что ли? Или еще что?
Пути их пересеклись по дороге в Компастелу. По преданию, в тех местах
почил апостол Иаков, и теперь из года в год на могилу великого
праведника шли тысячи и тысячи паломников.
Одинокий монах “не как все” привлек внимание одного лишь Марка. Марк
подошел и попытался завести разговор на темы, обычные в таких случаях: о
начальстве, о вестях из Рима...
Старый монах отвечал скупо, а больше всего молчал, внимательно
вглядываясь в глаза Марку, казалось, он пытался постичь самое
сокровенное – затем предложил сойти с дороги, отдохнуть. Они сели, и
старец совершенно неожиданно стал рассказывать, как Иисус пришел на
берег Галилейского моря, и ученики Его были с Ним, говорил Он к народу,
затем предложил ученикам раздать хлеб.
А будущие апостолы? Верить-то они верили, да вот только... И Иуда с ними
верил. Ведь бросили все и следовали за ним три года, вернее, верили, что
следуют. А потом старец рассказал – как Иисус шел к морю и как сидел –
там на камне, и как тяжело Ему было, Сыну Человеческому.
Марк, затаив дыхание, слушал. И ведь знал он много из того, что говорил
этот странник. Говори это кто другой, он бы смиренно, но изнывал. Да!
Как ни стыдно признаться. Но сейчас... Странник так рассказал,
поразительно подробно, будто сам он присутствовал тогда на берегу
Галилейского моря и чувствовал на губах вкус хлеба, преломленного
Иисусом. Да и говорил старец без обычных выпадов и обличений. Никогда
ранее Марк не встречал человека, который бы так вжился в каждый поступок
Христа, так вжился в каждый поступок, так неожиданно и дерзновенно (но,
несомненно, истинно) представлял Его вне пределов возвышенно скупых слов
Евангелия и в то же время внутри них.
Старец смолк, и некоторое время Марк сидел, опустив голову: он все еще
находился там, на песках пресного озера, настолько большого и
прекрасного, что его называли морем. Затем, желая отблагодарить и
заслужить одобрение столь поразившего его мужа, Марк заговорил о великом
значении веры и духовности для государств, для благоденствия народов, о
том, что дала вера для процветания цивилизации, о чем и свидетельствует
история человечества. Старый монах недвижимо сидел и, казалось,
внимательно слушал, во всяком случае – не перебивал. Марк замолчал.
Молчал и старец. Потом старец заговорил вновь, как будто не
останавливался, стал рассказывать дальше: как усомнились многие,
услышав, что должно вкушать плоть Его и пить кровь Его. И самое страшное
было в том, что все поняли они тогда, да принять не захотели...
– Тело Его – любовь Его, которую Бог готов даровать нам, людям, и Слово
Его тоже, – говорил так и не назвавший себя монах.– Всякий, кто
возжаждет воды живой – молитвы и Слова Божьего, пусть молится и, если
жаждет человече истинно и нуждается в слове, чтобы исполнить заповеди
Его – то дастся ему, и чадо Божье обретет Слово по воле Его в любых
обстоятельствах!..
Сколько лет прошло с тех пор? Многое забыл – и немудрено. О старце, как
о человеке из плоти и крови, он не вспоминал, забыл и подробности
повествования о том, как Христос преломлял хлеб и как потом люди от Него
ушли. Но эти последние слова старца запали таки Марку в душу.
Удивительно! Что же получается? Любой может читать Священные Писания? А
кто разрешил? Да! Кто разрешил? На каком основании? И на каком,
спрашивается, языке? На греческом? А многие ли его знают? И где они?..
На латинском? Значит, люди церковные и разве кто из благородных... Да и
что толку знать несколько тысяч слов, пусть даже и заученного Евангелия,
если ты не жил в культуре времен Христа хотя бы несколько лет. Или, на
худой конец, не прочел сотни – другой книг, чтобы понимать
многоразличный смысл слов. Да и этого может оказаться мало. А если
человек кроме своего родного языка никакого другого толком не знал? Как
они могли читать? Что это – ересь? Не может быть. И седина... Или старец
вилланов и за людей не считает?
“А может быть он вальденс?” – подумал тогда Марк. Он считал себя
достаточно здравомыслящим, чтобы не верить всему, о чем болтают в
трапезной, но помнил, о чем говорили твердо: ересь эта – ровесница
вселенской Церкви римской. Более тысячи лет смирялись с ересью, являя
тем долготерпение. Но одно лишь существование этой ереси под боком у
Рима подтачивало незыблемость авторитета папы, люди могли усомниться, и,
чтобы предотвратить безверие, надо было инакомыслящих уничтожить. Иначе,
многие простолюдины, изверившись, стали бы нравственными уродами,
выродками человечества. В делах спасенья – в особенности, когда спасаешь
других, – приходится поступаться милосердием, поэтому загнали вальденсов
сначала в горы и вот уже десятки лет попавшихся жгут и обращают,
обращают и жгут, а все-таки время от времени, говорят, опять сыскивают
новых. И по каким только щелям им удается укрываться от всевидящего ока
Церкви? Не иначе веельзевул им помощник...
Марк также слышал, что секта вальденсов осмеливалась переводить писания
со священных языков на народные, и их тайные миссионеры из своих нор в
Альпах проникали далеко в разные страны – и ведь совращали! Даже
духовных. Святые отцы объяснили, что делают еретики это силой
веельзевула, и невозможно не верить отцам... Вальденсы проникали всюду
под видом бродячих торговцев и музыкантов, жонглеров и прочих никчемных
перекати-поле людей. Тексты Писаний, оскверненных народными наречиями,
они прятали на теле. На теле! Грех. И грех тяжелый. К тому же всем
мало-мальски сведущим людям известно, что существует лишь три священных
языка: еврейский, греческий и третий – латинский. Верховный понтифик
освятил последний язык властью, полученной от апостола Петра через
обряд. Таинство – имя ему. Правда, Марк не слышал, чтобы кто переводы
вальденсов читал... А старец говорит про чтение. Но все равно – на теле...
Господи, как же получается? Если кто из вилланов пожелает помолиться и
дастся ему? Может, еще и принесут? Кто? Вот именно, кто? Тем более на
родном языке. Вот и получается, что или ангелы, или вальденсы, или еще
какие-нибудь. Насчет ангелов – сомнительно. А вальденсы... Хитры
еретики, но все равно, найденные у них оскверненные Писания сжигали.
Прежде Писания, а потом и владельцев. Уж не еретик ли этот старикашка?
Вроде не похож он на вечно небритых уродов, какими их видел Марк у
позорных столбов. И лица их вечно истомлены, очевидно, похотью, да и
лишены их хари чего-то очень важного, привычного и невыразимого –
благостности, что ли? – и тем отличаются они даже от палача. Да, даже от
палача, несомненно послушного церкви.
Марк был обучен в монастыре вытеснять сомнения и умел это делать, но на
этот раз свое умение применять не пришлось. Он решил, что просто не
понял сокровенный смысл поразительных речей старца, что надо понимать
все сказанное духовно... Может быть, образовался новый монашеский орден?
Особой святости? Превосходящий прежние? А вальденсы? – “Их выжгли,
должно быть всех”,– решил тогда Марк.
Марк страшился безверия. Безверие означало муки ада, пытки там, пытки
еще более страшные, чем те, которые можно увидеть на фресках храма.
К тому же для Марка, именно потому что он духовный, ад мог наступить и
раньше – в руках святых отцов инквизиции.
Марк с ужасом и страхом смотрел на явное свидетельство своей прежней
духовной неразборчивости, слабости, своего безверия – на обезображенное
тело старика. Оно, как зловещий образ его, Марка, больной и греховной
души, казалось заслонял небо, третье небо Писаний. Не смог он тогда
распознать врага. Хитер и коварен дьявол, и искусны слуги его. “Но
неужели его сожгут? Может, ошибка?” – наперекор здравому смыслу все же
рвалось в душе Марка.
Человек, вытянувшись, стоял у столба, запрокинув голову от стремившихся
достичь его редких всплесков пламени: ветер дул в противоположную
сторону – хотел напоследок вдохнуть, еще хоть один глоток воздуха.
Монахи и прихожане, певшие подобающие такому случаю гимны-молитвы,
поняли, что развязка вот-вот наступит, – и смолкли. Не до гимнов – не
упустить бы ни одной подробности очищающего их душу таинства.
Они твердо верили, что не должно быть упущено ни малейшего из
благословений их духовного возрастания, дарованных им небом...
– Сейчас благословлять начнет, старый козел, – спокойно и очень внятно
сказал более опытный в подобных священнодействиях Иаков.– А потом
запоет. Молитесь за него, – сказал он стоявшим рядом людям.– Сейчас для
него последняя возможность покаяться. Но молитесь с любовью, ибо только
такие молитвы слышит Господь.
Погибающий опустил голову.
– Господи, прости им грехи их, ибо не ведают, что творят, – без усилия
сказал он, обращаясь на этот раз уже не к толпе. За шумом пламени
стоящие кругом люди не услышали его. Но, удивительно, – Марк по губам
понял сказанное.
И Альменде запел. Запел хрипловатым надтреснутым старческим голосом,
вовсе для пения не приспособленным. Именно это несоответствие и поразило
Марка, именно от этого как будто сдвинулось сердце. Память о смолкшем
ангельском пении монахов, огонь, дым, страстно напряженные люди – и этот
жалкий надтреснутый голос, негромкий, но в небеса проникающий. И Марку
стало ясно, просто ясно, помимо размышлений, что держатся небеса только
этим гимном, а не молитвословием его палачей. Гимна этого он не знал,
такого ни в храмах, ни в монастырях не пели, но Марк как будто смутно
вспомнил его – где он мог слышать его? – чистейшее славословие Богу,
восходящее ко времени древнейшему.
А человек у столба все хрипел, колпак да хрип – вот и все его богатство.
“Так умирать,– подумал Марк.– Бедняга”,– но тут же спохватился:
“Заступница, укрепи веру мою! Господи! Укрепи веру мою в спасающую
Церковь! Матушка, укрепи,– уже не осознавая, куда обращается, отчаянно
просил Марк.– Укрепи... Укрепи... Укрепи...”
Утихший было ветер рванул снова – с треском вверх метнулись искры... и
смолкло пение, голос захлебнулся огнем – стало тихо. Казалось, звуки
гимна оторвались от земли и покинули ее вместе с посветлевшим от ветра
дымом и умирающими в дрожащем круговороте искрами. Два – три мгновения,
и толпа, осознав, что свершилось ее очищение, взревела. Послышались
рыдания, плакали некоторые женщины: не все выдерживают подобные взрывы
страстей. Тем более, если ты зажат и уже как бы не свой.
Марку разом стало жутко и холодно, и от холода этого стянуло кожу, живот
подвело, захотелось упасть, зарыться лицом в ладони – да что там! – в
землю, и не чувствовать ничего, ничего... Чтобы не видеть. Марк
попытался сосредоточиться на уходящем наверх и в сторону шлейфа дыма,
дрожащем, как и все вокруг, почти прозрачном, но отчетливо разделявшим
небо надвое, облака надвое, и птиц надвое, и все – все. “Один возьмется,
а другой останется”,– вспомнил Марк. И не случайно вспомнил.
Голову Марк не рисковал поднять, чтобы не заметил Иаков, лишь глазами...
Смотреть вниз, что там у столба – не надо! Хотелось плакать, рыдать и
буйствовать, но заметят, спросят и тогда...
– Да, болтливый на этот раз попался,– настолько невозмутимо сказал
Иаков, что Марк отшатнулся.– Казалось бы, уже привык ко всем штукам, но,
сам на себя удивляюсь, каждый раз поражает эта их ограниченность,
убогость мышления. Мать и отец сему – бездуховность. Да – написано, но
что бы там ни было написано – умному понятно, что право понимать и
истолковывать принадлежит Церкви, нашей Церкви, то есть нам. И в этом
путь к истине! Только так счастье всем. И люди идут к нам, их много.
Миллионы. Все призвание и их, и нас – любовь!
Марк стоял плотно, широко расставив ноги – чего уж: ударом больше,
ударом меньше... Он старался, чтобы лицо его было спокойно, не потеряло
привычного выражения благостности. “Да, но... Да, но... Да, “не кради”,
но это небольшое возьму... Да, я тебе буду верна, но с соседом-то... можно?”
Эти опасные мысли не были внове Марку, и прежде он ими терзался. Только
и спасался что молитвами, подсказанными более опытными духовными
братьями. Молитва за молитвой, раз за разом, раз за разом... “И я скажу
вам: просите и дано будет вам,– помнил он наизусть...– Какой из вас
отец, когда сын попросит хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит
рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?”
И мысли уходили, в душе поселялся мир, покой, ровность пребывания. Но
нет-нет, увлекался чем-либо, забывал о молитве и вновь возвращалось
сомнение.– “И как только совмещается: да, Бог глаголет к сердцу каждого,
но... И Иаков так верит. И я должен. Иначе...”
Но в который раз за этот день осекся Марк, ужаснувшись метаниям своих
мыслей, смене их прямо-таки болезненной.
“Господи, да за что же это? Укрепи веру мою. Господи, помилуй, Господи,
помилуй; Господи, помилуй, Господи...”
– Да фанатиков надо уничтожить,– вновь услышал он Иакова.– Иначе – хаос.
Каждый будет поступать, как вздумается. Управы на князей не будет,
вилланы обнаглеют, горожане начнут вымирать от безделья, монахи
переженятся, а ведь написано: “Горше смерти – женщина”.
“Да он оправдывается! – вдруг озарило Марка.– Он, Иаков! Ай да, Иаков! И
он, видно, не святой: сомневается. Так не ровен час – загремит... на
такое же покаяние.– И совсем некстати вспомнил магию особого, богатого
интонациями, и тем очень приятного голоса Иакова.– Захрипишь ли?”
Толпа успокоилась – уже не ревела, а так, зудела. Марку было нехорошо:
напряжение на площади, за которым он угадывал нечто похотливое,
извращенный страх равнодушных; хаос мыслей, а еще вернее, бессмыслие;
гибель – но кого? – то ли выродка, то ли мученика, то ли старца,
превосходящего судей своих проникновенностью к Богу, то ли загаженного
еретика, с неподходяще для него чистым позорным колпаком – все это за
минуты истощило Марка. Силы ушли, как обвал, как разом уходит вино из
лопнувшей от падения бочки. И Марк был, как та развалившаяся бочка, на
которой лопнул лишь нижний обруч, а верхний цел и не выпускает
изломанные ребра, удерживает и сдавливает нечто еще живое в Марке, живое
– страстно зовущее к поступкам, влекущее за пределы привычного.
Глаза Марка бежали уже не только от черноты у столба, страшной своей
противоестественностью. Он, не глядя, угадывал ее в пламени, и всем
естеством не хотелось ничего видеть: ни Иакова, ни всего этого, ни самой
земли обезображенной. Что оставалось? Одно небо... Одно только небо, но
и оно было перечеркнуто светлым дымом бессчастия. А сколько их – таких
дымов – перечеркивают небо? К чему такое небо? Господи, и как Ты можешь?
Такое? Ты – породивший Иисуса? Почему Ты такое делаешь? Ты ли это
сделал? Зачем? Зачем?
Сын Божий Иаков, столь откровенно удовлетворенный, с четками в руках,
среди бусин которых – крест, простой деревянный крестик, такие же,
наверное, четки и у того, который давал осужденному целование креста...
А если убрать перекладину у креста – то столб будет, такой же как на
площади... Для чего этот странный старик умер?
“Да что это я? – опять попытался опомниться Марк.– Брат мне Иаков. Нет в
церкви человека вернее его... Оправдывается? Привиделось... Это от
болезни. Живот не в порядке – вот и мерещится. Конечно, привиделось.
Просто люди кругом, и он говорит не столько мне, сколько рядом стоящим.
Сие долг его. Во благословение людям, для укрепления веры и духовного
возрастания. Ни на минутку не забывает о высоком призвании своем. Се,
человек! А я разнюнился... Сопля монастырская”.
Тут Марк почувствовал, как знакомые руки обняли его. Марку болезненно
было сейчас всякое прикосновение, он непроизвольно попытался
отстраниться, но не вырвался: хотелось ободрения, помощи, ласки.
– Что, брат, плохо? Живот? – участливо спросил Иаков.
– Может, вернемся? Приляжешь? Совсем на тебе лица нет,– и Иаков
поцеловал Марка.
От поцелуя этого сердце у Марка и вовсе оборвалось. Слезы навернулись и,
чтобы скрыть их, он опустил голову: пригодился клобук. Не знал он: то ли
отстраняться, то ли доверяться, и, боясь самого себя, и того, что
приходилось скрывать, он не сказал, а выдохнул с усилием:
– Да, брат. Худо мне... И что за гадость мне скормили? И как только
таких нечестивцев земля носит? – помянул Марк хозяина постоялого двора,
вызывавшего подозрение своими вечно прищуренными глазами. Но от этой
неправды Марку лишь стало хуже. Но уж лучше живот, чем лукавить...
“А может и вправду у меня живот?” – подумал Марк и прислушался к своему
телу. Сердце сжалось от предчувствия и страха болезни. Всегда жутковато
вслушиваться в неведомые члены свои, лишь до времени несущие жизнь, а
сейчас может... Может, и его смерть там затаилась? Пот выступил на его
лбу. И Марк внутренне согласился, что болен, покорился этому своему
желанию. И от согласия, оттого, что не надо больше притворяться, стало
легче, грудь как бы расправилась, и сердце отпустило. И уже угадывал,
что с трудом будет передвигать дрожащие и подгибающиеся ноги, когда
пойдут они с Иаковом прочь с площади к постоялому двору по пустым еще
улицам. Будет опираться на Иакова и иногда даже постанывать будет, и от
этого станет ему легче.
Жители стояли на площади и расходиться не спешили. Что еще они там не
увидели? Какую подробность не высмотрели? Может, подошла запоздавшая
набожная женщина с вязаночкой хвороста, чтобы подбросить в огонь? Чтобы
был он ярче и лучше очистил убиенного и город их? А опоздала она, потому
как взяла вязанку не по силам, да и далеко было идти. Запомнят ее
жители, после будут слушать ее благостные речи о том, как сподобил ее,
недостойную, Сам Господь Бог на этот подвиг, к вящей Славе Его. Или,
может, рассматривают богомолок-старух, которых в первых рядах
поддерживают под руки, потому что трудно им стоять: не пожелали они для
огня даже клюки своей – последнее отдают на благо ближним. А может,
видно сквозь пламя, как корчится еще от жара черное, некогда бывшее
человеком, подобием Божием?
Скоро надоест им и это, вновь будет не толпа, а множество людей,
особенных, столь друг на друга не похожих, но в то же время
неразличимых. Скоро овладеют ими другие потребности, потому как все
кончится, куражиться будет уже не над кем. Овладеет ими чувство чего-то
недополученного, неудовлетворенного. Так всегда бывает после любого
зрелища, благочестивого или нет. Хорошо, если не будет потасовки. Всякое
бывает: люди...
“Интересно,– подумал Марк,– а когда Христа убивали, что люди,
натешившись, делали? Шли домой к детям? Не торопясь, наверное, шли? Или
мирно беседовали? Задирали друг друга? Грызлись? Или расходились
благочестиво?.. Ведь, наверняка, благословляли друг друга... Что
изменилось?”
– Паршивый народишко,– вдумчиво сказал Иаков, когда они отошли
настолько, что их не могли услышать.– Точно так же вели бы себя, если б
сжигали не этого чумазого в колпаке, а любого другого, скажем, тебя или
меня. Или даже епископа нашего Фому. А приговорил бы не законный
инквизиционный трибунал, а какой-нибудь другой, еретический или,
например, мусульманский. Та же самая карга и хворосту бы от широты
душевной приподнесла, а старушечки бы с молитвой ключешки свои
пожертвовали, чтобы пожарче припекало.– Иаков с чувством сплюнул.– Дрянь
народ.
Марку очень нравился Иаков в эти редкие минуты откровенности. Другой,
особенный, чувствующий Иаков. Марк очень ценил такие моменты и всегда
спешил их занять беседой, но сейчас он был слишком истощен. Он молча
шел, прислушиваясь к себе, со страхом ожидая сильных болей в животе. Шел
осторожно, выбирая, куда помягче поставить ногу.
– Но, слава Богу, пока этого не произошло,– сказал Иаков и мягко положил
руку на плечо Марку, желая его ободрить и поддержать.
– И за это славить Господа надо. И больше молиться, чтобы никогда и не
произошло.
Некоторое время они шли молча. Наконец, Иаков продолжил:
– А если тебя будут сжигать, ты станешь петь? И что бы ты стал петь?
“Хороший он все-таки человек,– подумал Марк.– Настоящий. Брат мой...
Видит, что плохо мне и отвлекает разговором. Помочь хочет. Другой бы
рассказал, кто из знакомых от живота преставился”.
– Спасибо, брат, но не трать на меня, недостойного, сил...
Но Иаков продолжал:
– А я бы тоже благословил. И спел бы. Только погромче, а не как этот,
просипел что-то под нос! Знай наших! Нас не одолеешь!
Они уже подходили к месту ночлега.
“Эх, полежать бы да помолиться спокойно”,– подумал Марк.
– Горят костры, очищающие отчизну нашу. И слава Богу. Во славу Божью.
Надо, надо чистить нашу матушку-землю, дом наш общий, а то не ровен
час... и впрямь поведут лже-пастыри целые народы в озеро огненное, а нас
на костер.– Иаков смотрел в конец улицы, нет, еще дальше, куда-то
вдаль.– Верность и страдание, страдание и верность, мученичество за веру
– вот истинный удел монаха.– Иаков распрямился, ему, видимо, что-то
представлялось, видел что-то.– Мученичество мы преодолеем и войдем...
“Наверное, Дух снизошел”,– подумал Марк.
Очень редко, но такое с Иаковом случилось, когда он телом вроде здесь, а
на самом деле – его нет. Марк с трепетом и почтением относился и к
Иакову, и к этим мгновениям, пронизанным высокой религиозностью. Сам он
подобного не удостаивался.
– Жечь! жечь их надо! С любовью. Отечески, долготерпеливо. Любить,
молиться, благословлять – и жечь, жечь, жечь! – Иаков воздел руки к небу
и торжественно, как бы давая обет, удивительно красиво выделяя смысл
молитвы, особенным своим голосом, произнес: – Господи! Дай мне,
недостойному рабу Твоему Иакову, сил и веры истинной, чтобы трудиться по
славу твою и в смирении и благодати бороться с нечестью земли этой,
сожигать противное даже до пределов вселенной. Дай, Господи, к тому
любви и Духа Твоего! Аминь!
– Аминь! – повторил за братом Марк.
“А ведь он опять оправдывается”,– вновь появилась все та же, уже раз
изгнанная мысль. И опять, как прежде: “Опять я... Сомневается... Как
же...” – Марк провожал взглядом почему-то снявшееся воронье – и
напоминание о смерти, столь уместное в городе, где казнят и радуются
чужой смерти.
И тут Марк чуть не остановился, но и остановиться он был не в силах, а
так, отступился:
“Да нет же, это я сомневаюсь, это я оправдываюсь,– и от мысли такой у
Марка, действительно, подвело живот.– Что это я? Что со мной?
Страшно...” – и он торопясь, стал читать столь хорошо ему знакомую и
столь любимую им молитву. Он знал, что если не поможет один раз, то
прочтет ее десять, двадцать... сто раз...
Весь день, если потребуется, читать ее будет, а не поможет – пост
наложит, пока не уйдет из головы коварная мысль, что не случайно старец
этот принял смерть позорную: слова его открывали в душе Марка нечто
невообразимое, просторное, грандиозное, то, чем он прежде жил и во что
верил.
“Отче наш, иже еси на небесех...” – но уже знал он, предчувствовал теми
же новыми для его души просторами, из которых и рвались эти ненужные и
опасные мысли, что снится будут ему, и мучить будут его слова Иакова.
“Жечь – с любовью! Жечь – с любовью!”
Так и случилось. В эту ночь Марк спал плохо, только мучился. Его
догоняли вооруженные стражники, но догнать не могли. А настигали его
монахи с откинутыми назад клобуками, у каждого из них вязанки хвороста,
а Марк защищался, отталкивал их, отталкивал, падал и вновь подымался...
И как будто голоса со всех сторон: “Было... было... было...”
Марк опять просыпался и вновь засыпал и вновь видел эти вязанки хвороста
и монахов с благочестивыми лицами и четками. Марк защищался, отталкивал
их, отталкивал, падал, подымался, и все молча, и все силился сказать:
“Не мое это! Не мое!” Силился и не мог...
Через два года Марк ушел в паломничество и больше в монастырь не
вернулся. Вскоре он принял крещение. Через семь лет Господь допустил,
чтобы его постигла участь Альменде: Марка официально отлучили от Церкви,
которую он покинул десять лет назад,– и сожгли. Марк перед смертью
ничего не сказал: – не было сил. Он лишь попытался спеть часть гимна,
того же гимна, что пел и Альменде. К своему последнему шагу Марк успел
его выучить.
На площади его слушали тысячи людей – и услышали двое: святой странник
Иоанн и служанка бургомистра Мария.
Мария умерла от старости, были на то причины, а Иоанна сожгли через
пятнадцать с половиной лет, и тоже на центральной площади. Там его
увидели двое...
1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
 Вход
Вход Регистрация
Регистрация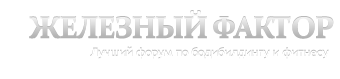










 Наверх
Наверх