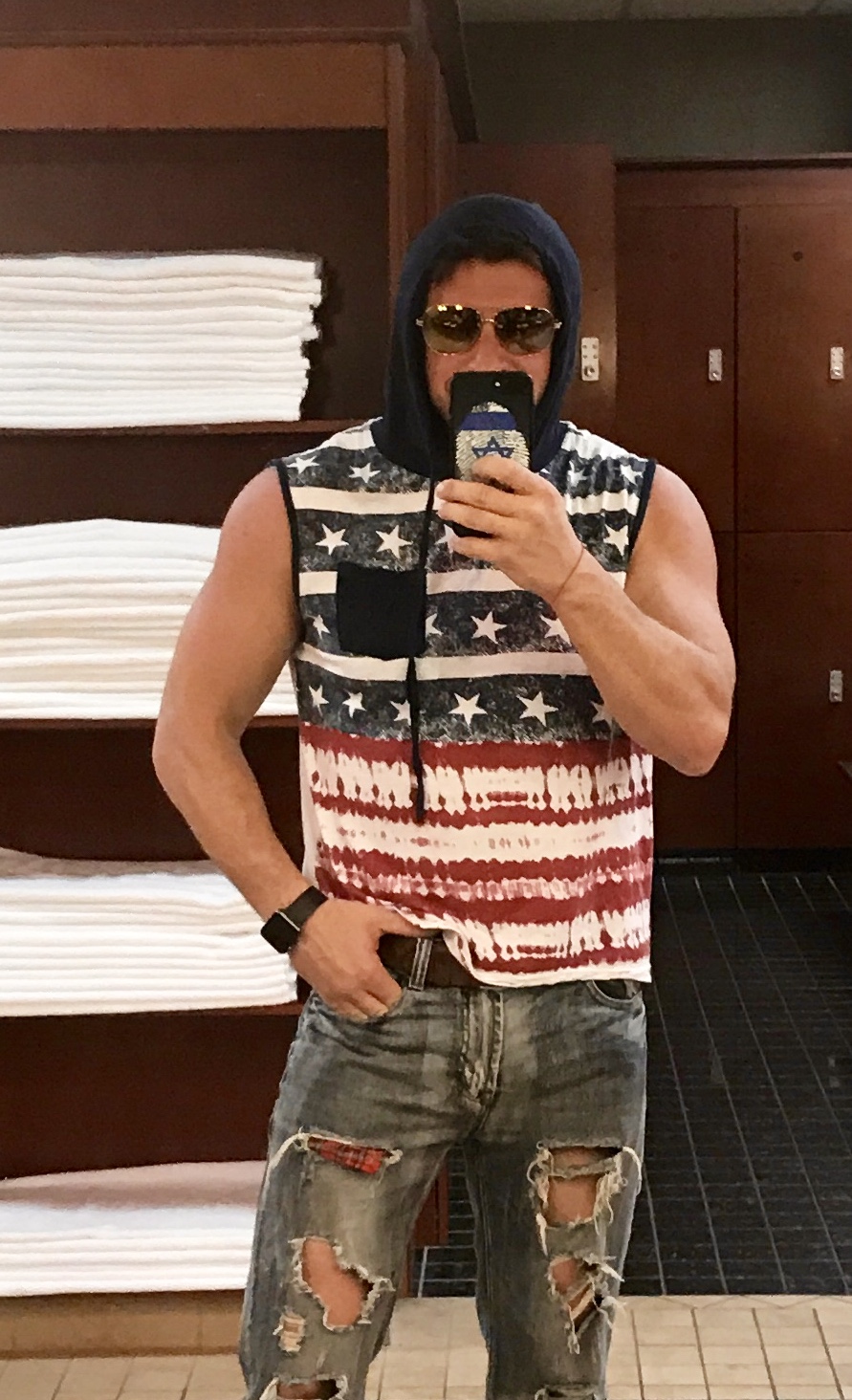Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму. После регистрации Вам будет разрешено создавать топики, писать сообщения, загружать и просматривать фотографии, оценивать посты других форумчан, управлять собственным профилем на форуме и многое другое. Личные сообщения доступны после 50 оставленных на форуме сообщений . Полный доступ к разделу "Химия" так же доступен после 50 сообщений. Если у Вас уже есть аккаунт, войдите здесь, либо зарегистрируйтесь!

Юрий Власов
#31

 Отправлено 08 июля 2004 - 01:54
Отправлено 08 июля 2004 - 01:54

а что касается доказательств того что он химичил........так, скажем, в лифтинге некоторых сильнейших спортсменов неоднократно выигрывавших мир ни разу на доп. контроле не ловили, тем не менее любой, кто имеет более-менее серьезное отношение к лифтингу знает что все они химичат.
Добавлено
кстати, Поль Андерсон, химичил так, что мало не покажется......а ведь он современник Власова...так что аргумент относительно того, что тогда мол химию не употребляли - полная туфта.
еще один момент....добавок тогда особых не было и в помине............то есть получается, что Власов без стероидов и добавок стал здоровым...............типа как Илья Муромец.....спал полгода на печи и проснулся здоровенным мужиком.
спуститесь с небес на землю.....в любом силовом спорте на серьезном уровне все спортсмены химичат.
#32

 Отправлено 08 июля 2004 - 03:31
Отправлено 08 июля 2004 - 03:31

вот этот как раз аргумент как раз туфта. Ну я современник Леврона так что я химик?кстати, Поль Андерсон, химичил так, что мало не покажется......а ведь он современник Власова...так что аргумент относительно того, что тогда мол химию не употребляли - полная туфта.
Илья спал не полгода а 33.еще один момент....добавок тогда особых не было и в помине............то есть получается, что Власов без стероидов и добавок стал здоровым...............типа как Илья Муромец.....спал полгода на печи и проснулся здоровенным мужиком.
И Власов тоже не за 1 день.
#33

 Отправлено 08 июля 2004 - 04:47
Отправлено 08 июля 2004 - 04:47

не совсем понял твою логику....вот этот как раз аргумент как раз туфта. Ну я современник Леврона так что я химик?
был аргумент, что химию в те времена не применяли ----> Власов не может быть химиком.....я объяснил наглядным примером, что это не совсем так.
ты не химик....у тебя результаты слабые для химика. а у Власова результаты сам знаешь какие были.
Власов не за 1 день....но и не за 33 года.
Добавлено
Лехаа
это ты про кого?
про Alexey Sapozhnikov ?
или про меня?
это я про Сапожникова.....ты хоть фото и видео выкладываешь, а у этого все на словах...недавно в Израиле был чемпионат по жиму......он почему-то там не выступил....впрочем, он вообще нигде и никогда не выступал.
второй момент - это его нездоровая антипропаганда стероидов.......я уверен что у этого должна быть какая-то причина.....может он химичил в прошлом и что-то случилось с писуном...или с печенью....я не знаю, могу только гадать, в любом случае, не может человек, вот так вот, с бухты-барахты, начать так активно бороться с "химиками".
а что касается 220кг с отбивом, то пусть выложит видео хотя бы с 200кг....или покажет протокол с соревнований.
#34

 Отправлено 08 июля 2004 - 05:14
Отправлено 08 июля 2004 - 05:14

нездоровая - я считаю это правильно.второй момент - это его нездоровая антипропаганда стероидов.......я уверен что у этого должна быть какая-то причина.....может он химичил в прошлом и что-то случилось с писуном...или с печенью....я не знаю, могу только гадать, в любом случае, не может человек, вот так вот, с бухты-барахты, начать так активно бороться с "химиками".
Когда скачко говорит про 3000 мг теста в день сустанон и что 8 метана - это терапевт дозы...
то это полный долбоебизм и ему должен быть противовес
#35

 _Freezajac_
Отправлено 08 июля 2004 - 06:27
_Freezajac_
Отправлено 08 июля 2004 - 06:27
 _Freezajac_
_Freezajac_
Линия партии, понимаете ли
#38

 Отправлено 09 июля 2004 - 02:14
Отправлено 09 июля 2004 - 02:14

Андерсен стал чемпионом в 1956 году в Мельбурне, Власов стал чемпионом в 1960 в Риме. Так что прямой угрозе его свободе не было, другое было уже время, расцвет "оттепели".
Власов был один из кумиров моего детства и хочется конечно верить что он не принимал стероиды, но кто его знает, с позиции сегодняшнего времени в это трудно поверить.
#39

 Отправлено 09 июля 2004 - 02:38
Отправлено 09 июля 2004 - 02:38

#40

 Отправлено 09 июля 2004 - 10:47
Отправлено 09 июля 2004 - 10:47

А теперь проанализируем факты. На своих последних соревнованиях - олимпийских играх Власов занял второе место с такими результатами: 197,5 / 162,5 / 210,0 сумма 570,0. Теперь открываем современные нормативы по ТА (http://www.shtanga.kcn.ru/kvalif1.htm) и смотрим весовую категорию свыше 105 кг, сумма на МСМК немного не мало = 415 кг, теперь вспоминаем, что Власов выступал в ТРОЕБОРЬЕ, когда был еще жим стоя, а жим стоя у него сильнейшее движение 197.5 кг, а сегоднешние нормативы по ДВОЕБОРЬЮ, только рывок и толчек, итого 570 - 197.5 = 372.5 кг. С такой суммой двоеборья 372.5 кг, Власов не выполняет даже сегодняшний норматив МСМК ! Конечно надо учесть, что выступление в троеборье отнимает больше сил, и скорее всего МСМК он сегодня бы получил, но Власов был не рядовой спортсмен, а сильнейший атлет тех времен.
Ну и кто здесь метана объелся, какой он нафиг "химик"?
#41

 Отправлено 09 июля 2004 - 11:21
Отправлено 09 июля 2004 - 11:21

Просто, не зная сильных натуралов, нельзя отрицать их существование.
#43

 Отправлено 09 июля 2004 - 06:58
Отправлено 09 июля 2004 - 06:58

Такой арифметический подход не совсем правильный. Когда отменили жим стоя то результаты в рывке и толчке сразу увеличились, так как жим стоя это в основном чистая сила, а рывок и толчок это динамическое, технически скожное движение где требуются другие атлетические качества. Толчок стоя мешал развитию скорости, гибкости и координации, был очень травмоопасным упражнением и результаты в рывке были сравнительно невысокими, а те атлеты у которых был хороший рывок обычно значительно отставали в жиме стоя. Так что неизвестно какие результаты Власов бы показал если бы в то время было только двоеборье.А теперь проанализируем факты. На своих последних соревнованиях - олимпийских играх Власов занял второе место с такими результатами: 197,5 / 162,5 / 210,0 сумма 570,0. Теперь открываем современные нормативы по ТА (http://www.shtanga.kcn.ru/kvalif1.htm) и смотрим весовую категорию свыше 105 кг, сумма на МСМК немного не мало = 415 кг, теперь вспоминаем, что Власов выступал в ТРОЕБОРЬЕ, когда был еще жим стоя, а жим стоя у него сильнейшее движение 197.5 кг, а сегоднешние нормативы по ДВОЕБОРЬЮ, только рывок и толчек, итого 570 - 197.5 = 372.5 кг. С такой суммой двоеборья 372.5 кг, Власов не выполняет даже сегодняшний норматив МСМК ! Конечно надо учесть, что выступление в троеборье отнимает больше сил, и скорее всего МСМК он сегодня бы получил, но Власов был не рядовой спортсмен, а сильнейший атлет тех времен.
Однако сказать с уверенностью что он не принимал стероиды врядли возможно, да и какая разница, он один из великих в любоим случае.
#44

 Отправлено 10 июля 2004 - 05:43
Отправлено 10 июля 2004 - 05:43

P.S ne zrja Atos tolica zabanil vidno podzaebal on ego konkretno. Ja Atosa davno znaju on muzhik spravedlivij i za prosto tak banitj ne budet . O chem spor o Vlasove ? nichego chelovek ne kushal ? da kakaja raznica el ni el nikto iz vas ne mozhet dokazatj ni to ne drugoje. Tolicu ja tebe eshe raz govorju shto naturali siplutsja bistreje chem himiki ne pohodi v zal mesjaca 3 i posmotri potom na sebja ...
#49

 Отправлено 11 июля 2004 - 10:30
Отправлено 11 июля 2004 - 10:30

а у меня упражнения в почете ПО ОЧЕРЕДИ.kogda ja sjuda u tolika v pochete bil biceps seicas zhim
в этом весь и прикол. одновременно их все не потянуть.
однако жим не мешает бицепсу и я делал их одновременно.
а сейчас делаю тягу в наклоне жим лежа и приседания и всё.
хахаха!naturali siplutsja bistreje chem himiki ne pohodi v zal mesjaca 3 i posmotri potom na sebja ...
для того чтобы химик сыпался ему не обязательно БЫТЬ ВНЕ ЗАЛА.
а натуралу (мне) достаточно отжаться от пола 200 раз в неделю и подтянуться раз 100
чтобы весь торс держать в тонусе и даже своеобразно развивать некоторые функции.
#50

 Отправлено 11 июля 2004 - 10:39
Отправлено 11 июля 2004 - 10:39

Как и натуралу. Есть такое слово - обстоятельства. Если плавно выходишь в натуралы - сыпется лишь вода. Вернее сочитсядля того чтобы химик сыпался ему не обязательно БЫТЬ ВНЕ ЗАЛА
А если химик и натурал умрут в один день, их похоронят, то кто осыпется быстрее? Может у кого гроб хуже?
В общем, Господа, хорош гнать хуйню. Щас всё начну стирать.
Сообщение изменено: Medved (11 июля 2004 - 10:42)
#51

 Отправлено 11 июля 2004 - 10:49
Отправлено 11 июля 2004 - 10:49

после того как Власов после окончания карьеры год не брал в руки штангу его неожиданно попросили выступить в цирке и он толкнул 200.
как вы думаете мог ли Шварц, Ронни, Леврон, Коэн, Ричлак показать после окончания тренировок и всех своих курсов 90% былого максимума??
вот я показывал. я приседал в 16-17 лет а потом бросил так вот до 18-19 лет сила держалась
я делал пару подходов в год для проверки кондиции
(а в 21 уже едва приседал с 60 кг)
Думаю, дело в химии. сыпятся они.
Добавлено
МАДМАКС
=======
я жму широким хватом полгода в году так вот за время перерыва максимум оседает процента на три.
#52

 Отправлено 11 июля 2004 - 10:56
Отправлено 11 июля 2004 - 10:56

Источник плиз.после того как Власов после окончания карьеры год не брал в руки штангу его неожиданно попросили выступить в цирке и он толкнул 200.
А я вообще тогда не занимался - а ведь сила наверняка как в 16 лет, так и в 17 одинаковая была и не падала зараза!я приседал в 16-17 лет а потом бросил так вот до 18-19 лет сила держалась
#53

 Отправлено 12 июля 2004 - 07:04
Отправлено 12 июля 2004 - 07:04

Это действительно в книге Справедливость силы, только это произходило не цирке, а на каких-то соревнованиях где Власов был просто гостем.Цитата
после того как Власов после окончания карьеры год не брал в руки штангу его неожиданно попросили выступить в цирке и он толкнул 200.
Источник плиз.
split
Результаты в троеборье серьезно выросли в начале 70-х, на олимпиаде 72г Алексеев собрал в троеборье 640 (а сумму за 570 набрали еще трое). Мировой рекорд в сумме 645 пренадлежит тоже Алексееву.Такой арифметический подход не совсем правильный. Когда отменили жим стоя то результаты в рывке и толчке сразу увеличились, так как жим стоя это в основном чистая сила, а рывок и толчок это динамическое, технически скожное движение где требуются другие атлетические качества.
#54

 Отправлено 02 августа 2004 - 08:59
Отправлено 02 августа 2004 - 08:59

Так вот это тоже, но только злее.
------------------------------------
ТЕЗКА
Пятнадцатого, семнадцатого и девятнадцатого марта 1989 года я выступал в Ленинградском Доме молодежи.
Свыше двух десятилетий меня печатали скупо и выборочно, можно сказать, и вовсе не печатали. Так, следующая книга после 1983 года должна была появиться лишь в канун 1990! А надо было жить, работать. Поэтому в зиму и весну 1989 года я оказался вынужденным прибегнуть к платным выступлениям. Другого заработка для меня практически не существовало. До сих пор я выступал сотни раз и, за ничтожным исключением, бесплатно.
Надо сказать, выступать я не люблю. Не получается это у меня спокойно, рассудительно, без подключения сердца. После каждого выступления я просто болею. Это и душевная натянутость, и сам ответ в условиях, когда присутствует невидимый третий и ты знаешь, что бесишь их — тех, кто присылает невидимого третьего.
Я ловил себя на том, что часто забываю о зале и говорю им — не в кассетники, а в кабинеты, куда пойдут расшифрованные записки кассетников. Я говорю вещи вроде бы резкие, невозможные для них. Но ведь все, что мы говорим, это так мало после пережитого всенародного бедствия, которое не случается и в тысячелетия: десятки миллионов замученных, бесправие народа и нужда после клятвенных обещаний “счастливой доли”, а за ними одичание общества и потеря в бездушии людей и детей... Все, на чем мы настаиваем,— это столь мало, можно сказать ничто: всего лишь относиться к нам по-человечески...
Не люблю я и крупные залы. В них сложно установить нужные отношения с публикой (говоришь — и каждое слово возвращается умноженное чувствами сотен людей). А этот зал на тысячу двести мест сам располагал к доверительному разговору: ярусы красных кресел уютно охватывали сцену. И зал неглубокий, весь у сцены. Это очень важно — видеть лица.
Собственно, это были не выступления, а ответы на записки. Вопросы можно условно поделить на три темы: спортивную, восстановления здоровья и политическую. Как ни странно, вопросы политические преобладают. Они чрезвычайно разнообразны — исторические, философские, социологические и еще Бог весть какие. Наружу выплескиваются политические страсти, искусственно загнанные внутрь каждого и запрещенные, точнее, опасные для обычного человеческого суждения “добрые” семьдесят лет. Люди стремятся понять события после октября 1917 года и представить, какое же будущее их ждет.
В ответах я исходил из основополагающих для меня представлений. Все явления общественной, политической и какой угодно жизни суть части одного неразрывного процесса. Не могут существовать сами по себе ветви, листья, кора — есть дерево, его корни, есть совокупность всего. Меня всегда поражало, как легко люди дробят целостные явления на части. Как легко принимают это навязываемое дробление за независимые, самостоятельные отрезки времени. Но ведь одно явление вытекает из другого, предполагает существование другого. Я говорил об обожествлении насилия, которое и привело нас к той пропасти, на краю которой мы сейчас топчемся. Я старался развернуть перед людьми исторический процесс в единстве, дать картину возникновения и развития насилия как господствующего государственно-правового принципа.
Всякий, кто налагает ограничения на свободу человека,— мой враг. Это определяет мои симпатии и антипатии и, естественно, направление жизни.
Я говорил и о народе как едином целом. У крестьянства, рабочих и интеллигенции общие задачи и цели. И все же существует граница. Она по-своему разделяет народ. Несомненно, есть две России. Одна — это та, что чахнет в очередях. Другая — нигде и никогда не ждет и вообще ни в чем не ведает отказа. И все гнет под себя, под свои интересы.
На выступлении семнадцатого марта в разных записках задавался один и тот же вопрос: какие качества в народе вызывают у вас “отрицательное отношение”? Это чрезвычайно трудно, не говоря об ответственности,— отвечать сходу, к тому же широта охвата вопросов воистину беспредельна: литература, спорт, законы силы, различные заболевания позвоночника, суставов и даже нервной системы, судьба Владимира Высоцкого, и еще о Ленине, перестройке, есть ли гласность, свобода слова, потом о НЭПе, Фиделе Кастро, Горьком, провале школьного образования, моем отце, работе государственной комиссии по преобразованию Академии педагогических наук (я был членом комиссии), паразитизме Госкомспорта, допингах, детском спорте, Шварценнегере, Гаккеншмидте, очередях, любви и, скажем, такой — будут ли выполнены планы жилищного строительства к 2000-му году?..
Время на обдумывание ограничено, можно сказать, его нет, а людей интересует именно твое мнение, твое отношение. В подавляющем большинстве приходят те, кто верит тебе. Помнится, на вопрос об отрицательных свойствах народа я ответил, что вызывает тяжкое недоумение доносительство, особенно его масштабы. Ведь за огромным количеством арестов и расправ — добровольные доносы. Десятки миллионов доносов!
И еще. В Узбекистане на самосожжение в последние годы обрекли себя более трехсот женщин, в основном молодых, даже юных. Уже одного-двух фактов самосожжения достаточно для того, чтобы всколыхнуть людей, всем миром подняться на спасение женщин, обреченных на рабский труд и рабскую зависимость от начальников-баев! Но народ безмолвствует.
И мы даем сажать и убивать лучших своих людей. Мы не возвысим голос в защиту тех, кто обрекает себя на гонения и мучения ради всех. Поем их песни, читаем их книги, восхищаемся талантом, мужеством, силой характера... и молчим, отступаем от них. Пушкин замечателен в легенде, а все остальные — какие Пушкины, куда им?
Я говорил об истории России как истории преодоления рабства прежде всего в себе.
Иногда зал враждебно молчал. Иногда сидел задавленно-тихо, безмолвно. Иногда взрывался аплодисментами.
Как правило, вечера превращались в жаркий диспут, после которого уже далеко за полночь я раздумывал о мощи, недоступности общественному контролю, фактической неподсудности охранных органов. Во имя чего народ тратит силы, отдает последние копейки на их содержание?
В каждом вечере, в каждом вопросе чувствовалось незримое присутствие невидимого, но всесильного третьего. У людей были иные слова, иные мысли, но они их не договаривали, обрывая на самом важном. Каждый ощущал и сознавал: невидимый третий здесь, в зале...
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей...
Этот третий, невидимый — лишь производная величина, не прыщ на теле народа, а его органическая и по-своему здоровая часть тела, как, скажем, и сам великий вождь...
Сатанинская сила Сталина?
Ее нет. Есть народ, его врожденная способность к поклонению и подчиненности, готовность отрывать от себя десять, сорок миллионов своих жизней — и сохранять любовь, верность Ему, им. Уже одна безграничная власть вождей над жизнью каждого должна была оскорблять людей, но... В общем, совсем не случаен тост Сталина за русский народ. Сталин в полной мере осознавал — быть ему “сатанинской” силой без определенных качеств народа или не быть.
Не быть!
Именно эта покорность людей, принимающих унижения, нужду и смерть из рук вождя и восхищающихся им, делают его кем угодно: божеством, идолом, сатаной, но главное — владыкой. И за всем — отнюдь не способности вождя, а неистребимая способность, скорее даже потребность, народа быть под хозяином, не представляющего себя без хозяина, старающегося дать толкование и оправдание всему изуверству капризов и поступков хозяина — ведь Хозяин! Верить в него! Раствориться в этой вере!
Так из “сатаны”, точнее, из-за “сатаны” вылезают обыкновеннейшие невежество, истовое поклонение силе, обожествление сильного (ведь не Иван Губитель, а Иван Грозный!), холопство и традиция веры, а с ними и все несчастья страны. Закономерные несчастья. Все они предопределены свойствами народа: и великими, и страшными. Вожди лишь усугубляли (или смягчали — факт практически неизвестный в нашей истории) эти свойства народа, доводя их порой до крайнего выражения, кровавого абсурда. Но они, наши вожди, были бы бессильны без поддержки народа и не поднялись бы выше шутов в представлении окружающих — шутов или официальных городских сумасшедших.
Конечно, я мог быть неточен в ответах, мог ошибиться и ошибался, но я пробивался к главному: развязать узлы страха перед незримым третьим, независимой речью разбудить в людях сознание права на свободу суждений, в том числе и права на ошибку, заблуждение. Я охотно рассказывал о спорте: записок с вопросами тут поступала тьма. Я ведь десять лет выступал за сборную страны, по праву носил титул “самого сильного человека в мире” и разбираюсь до тонкостей в тренировках, истории спорта, знаком с легендарными личностями в мировом спорте, сталкивался и с несправедливостями, равными жестокости. Но я всегда ждал, когда же исчерпаются эти вопросы. Об этом обычном свидетельствовало их повторение. И я переходил к тому, чего ждал весь вечер, ради чего жил и писал: история России, как я ее понимаю.
Это были ответы на вопросы, которые я условно называл “политическими”. Я знал и знаю, эти ответы очень не нравятся многим, в прошлом они создавали невыносимые условия жизни для меня, создают и сейчас. Однако я считаю долгом вести себя именно так. Пусть будет и мой крохотный шаг к тому, дабы сделать невозможными всевластие и вседозволенность невидимого третьего, снизить рост любых Хозяев в настоящем и будущем.
Семнадцатого марта, после выступления, когда публика хлынула на сцену, я получил в подарок фотоальбом — это оказалось несколько неожиданным. По этому в номере я сразу взял альбом и сел в кресло, приглушив телевизор. “Подарок — почему?” — раздумывал я, пытаясь представить того человека.
Растяжно, басовито погромыхивали листы железа за окном — там начинался откос над последними этажами гостиницы. Грохоту железа вторила дверь. Она назойливо дребезжала на запоре: ветер из коридора напирал постоянно.
Дни стояли ненастно-ветреные: низкие тучи, моросящий дождь и рывками ветер, напористый, обжимающий одежду. Поэтому я избегал гулять. Без движения — тренировок, ходьбы — я ощущал какую-то неловкость, неудобство в себе. Уже два месяца минули с двух последовавших друг за другом крупозных воспалений легких, а почти за любой прогулкой увязывались простуда, недомогание, кашель — он отпускал лишь под утро. Подобные состояния совершенно несвойственны мне, я даже прибавил в весе целых пять килограммов. Обычно же я держу себя в высокой тренированности и закаленности. В любом возрасте приятно нести себя упруго и не остерегаться стужи, ветра.
Я не изменяю своей убежденности в том, что болезни (особенно легочного происхождения) — это, прежде всего, угнетенность духа: длительное стояние беды в тебе. И оно, действительно, было все последние месяцы. И я не мог с ним справиться. Беда оказалась необычной и хлестала беспощадно, по самому больному, а самое главное — она пришла с той стороны, откуда я не ждал ее и был незащищен. Я все сознавал, но без физических нагрузок чувствовал себя разжижение, недостойно слабым, что уже само по себе, и без недомоганий,— вроде пощечины. Всю жизнь любая физическая слабость мнится мне недостойной. Я привык (и только так строю отношения с жизнью): тело служит мне — не мешает, а служит. Для этого я и дрессирую себя “железом”.
Теперь надлежало терпеть и ждать. Только тепло лета способно вернуть потерянное равновесие организму.
Я покосился на литровую банку: от кипятильника восходили пузыри — белые изменчивые пустоты воз-духа. Я вскрыл жестянку с морской капустой, нарезал хлеб. Лариса заварила чай. Мы молчали, приморенные вечером.
- Сколько тебе сахара? — спросил я.
- Ложку.
Нам повезло: мы купили сахар без талонов. Наши ленинградские друзья лишь разводили руками.
Пока чай настаивался, мы вяло перебирали записки — несколько сот преимущественно белых лоскутков бумаги. Я посмотрел на часы, затем на потолок. Каждый вечер, ближе к полуночи, там раздавались непонятные удары.
Мы принялись за чай, тихонько переговариваясь.
- Как страшно воет! — говорила Лариса на завыванья ветра.
Она открыла альбом на моих коленях. Под обложкой лежала аккуратная стопка бумаг. Первая страница была пронумирована цифрой 1, обведенной кружочком. Я отогнул листы, на последней странице в кружочке темнела цифра 32.
Шестнадцать листов из ученической тетради в растянутых по строчкам буквах. Письмо. Несомненно, письмо. Я обежал взглядом первую страницу: так и есть.
“Дорогой Юрий, если не ошибаюсь, то, кажется, Петрович! Вы кумир моей молодости — Вы и Томи Коно (“Железный Гаваец”, как его величали в те годы). По происхождению Коно является японцем, а так — гражданин США, то есть американец, стало быть. Верно, ни на него, ни на Вас я так и не стал похож ни по результатам в тяжелой атлетике, ни телосложением, ибо выглядел все же мешковатым. Верно, не настолько выглядел безобразно как, скажем, известный Вам Леня, но и не настолько прекрасным, чтобы встать в один ряд с Вами и Томи Коно. Но чертовски был влюблен в вас обоих. Откровенно признаться, нет ни одного в мире из современных тяжелоатлетов, в кого я был влюблен так, как когда-то в вас обоих. И какой вес ни поднимают штангисты сегодня, все одно — никого не удивят. Почему? Да потому, что каждому известно как сейчас собирают силу с помощью допинга и прочих штучек. Не думаю, что другой американец, вес которого подходил почти к двум центнерам, величаемый “человеком-краном”, был слабей физически какого-либо спортсмена, весящего втрое меньше его. Этот ребенок сегодня умудряется поднять куда больше знаменитого Андерсона.
Я тоже занимался тяжелой атлетикой и тоже физически крепкий. С восьми лет занимался гирями и выглядел намного сильнее сверстников. Например, начиная с двенадцати лет подтягивался на турнике до ста раз, В четырнадцать — уже угодил в тюрьму на пятнадцать лет, но и там не расставался со спортом. То в художественной самодеятельности занимался акробатикой, то играл в футбол, то занимался легкой атлетикой, вольной борьбой, боксом. Верно, ни вольной борьбой, ни боксом заниматься там не разрешали, но мы организовали клуб классической борьбы. Отремонтировали сами барак из никчемных под спортзал, раздобыли перчатки боксерские и упражнялись при закрытых дверях. А если появлялся кто-либо из начальства, сразу переключались на классическую борьбу. Устраивали иногда показательные выступления по ней. Но, как Вы сами понимаете, в семье не без урода: заложили нас, разоблачили и разогнали секцию спорта. Занимался и со штангой. Увы, результаты невелики! Рывок всего семьдесят пять килограммов при собственном весе шестьдесят пять. Жим был восемьдесят пять килограммов (тогда, как Вы помните, существовало троеборье), а толчок — сто пятнадцать килограммов. Это мое лучшее достижение до 1961 года — в том году я освободился, отслужив двенадцать лет барской службы, да там же и остался, то есть на Севере, в Воркуте.
Кстати, не упомянул, за что отбывал: по Указу от 4 июня 1947 года, то есть за воровство. Однако с этим сразу завязал. Еще раз упрятали бы за решетку — не было смысла начинать новую жизнь.
Освободился — тут уже было не до спорта, ведь набегал двадцать седьмой год, а я еще женщин в глаза не видел, только педерастов. И, естественно, потянуло наверстать упущенное. А где эти шкуры — там и вино. Раз чуть до тюрьмы дело не дошло, и после еще только чудом избежал решетки: помогла характеристика с места работы. Тогда решил жениться и обзавестись семьей. Попалась славная женщина. Прожил с ней полтора года и оставил: не было детей, А с детприемника взять, как она предлагала, я не согласился. Свой какой ни получится — не обидно, а чужой с отрицательными природными данными окажется и мучайся с ним всю жизнь, проклиная судьбу.
Вскоре подвернулась одна приезжая, из Армавира, соседка моего товарища-бригадника. Я был бригадиром и, придя к нему в гости, увидел и заинтересовался ею. Девка смазливая, на передок легкая — и завязалась совместная жизнь. А плодовитая — кошка и есть! Тут же забеременела. Я со стройки и пошел на шахту, ведь у нее уже был свой ребенок трех лет и шести месяцев. И вот родился мой сын. Назвал Дмитрием — Димой, в честь старшего брата, погибшего на войне с немцами. Спустя четыре года еще дочка родилась, назвал Жанной, в честь подруги детства. Жена не работала. Денег хватало с избытком. Я не пил, и она тоже.
Однажды жена заявляет: “Не хочу быть домоседкой, хочу работать”. Спрашиваю: “Тебе что, плохо живется, что ты на работу рвешься?”
Она в ответ: “А кто будет платить пенсию, когда я доживу до пятидесяти? Ты, что ли?” И я не имел права перечить ей.
Устроилась на ликеро-водочный завод и стала вскоре иметь солидные деньги. Каждый день наладилась возращаться с большим опозданием и, как правило, пьяная. А я в разные смены работаю. Дети одни дома. Сказал, чтобы рассчиталась и сидела с детьми. Она заявляет: “Нет, уж лучше ты рассчитывайся и сиди дома, а я работать буду”. И давай подсчитывать, сколько я имею от работы в шахте в месяц и сколько она.
“Рассчитывайся,— говорит,— и сиди с детьми. То ты меня кормил, теперь я тебя буду”. И пошли ссоры.
Стараюсь образумить, беду отвести, говорю: “Тебя посадят, Вера, что я буду делать с тремя детьми?” Она свое: “Не беспокойся, не посадят”. Говорю ей: “И ты еще смеешь утверждать, что тебя не посадят, когда весь поселок знает, что ты воруешь и идут к тебе день и ночь, как в дежурный магазин”. Она мне вдруг: “Кто меня сажать-то будет, начальник милиции или прокурор с судьей, те, что вместе со мной воруют?”.
Я и не поверил, спрашиваю: “Как воруют?” “А вот так,— говорит,— пойдем на завод. Хоть бельмы свои разуешь, а то дальше своего носа не видишь”.
Меня это заинтересовало. Не поленился, походил с недельку, понаблюдал — и мне стало ужасно больно. Вера мне только поясняет, чья машина приехала и, загрузившись ящиками с драгоценным спиртным, покидает завод. Жена на проходной, то есть отворяет к затворяет ворота. Ее обязанность — проверять транспорт и всех, кто следует через проходную.
Насмотревшись на этот бардак, велел, чтобы она рассчиталась и, если хочет работать, устроилась в другое место. Она наотрез против. Тогда я решил припугнуть ее и сказал: “В таком случае я уезжаю, а ты оставайся сама по себе”.
Она спокойно ответила: “Уезжай”.
На следующий день, придя на работу, уговорил начальство дать расчет без отработки. И мне дали. Не успел получить только сам расчет, сказали, завтра придешь. Это было первого марта 1973 года.
Придя домой поздно вечером, доложил ей о решении уехать и что уже взял расчет. Она вновь спокойно говорит: “Перышко тебе вдогонку. Плакать не стану”.
Я говорю: “Но я поеду через Москву”.
Она отвечает: “А безразлично, хоть через Берлин”.
Меня ее хладнокровие обожгло. И я ей говорю: “Я тебе, Вера, не сказал, зачем поеду через Москву, а поеду затем, чтобы зайти к московскому прокурору и рассказать обо всем, чем вы тут занимаетесь, обо всех ваших грязных делах на ликеро-водочном заводе”.
Она говорит: “Зачем тебе ехать в таком случае в Москву, когда в Воркуте есть прокурор?”
“Здесь у вас,— говорю,— все куплено”. И она молча вышла до соседки и позвонила в милицию. Пока я вещи укладывал в чемодан, и пяти минут не прошло, за мной прикатил черный “воронок”. И увезли.
А на другой день вызывал меня следователь Алехин Борис Константинович и на вопрос мой, на каком основании меня арестовали, ответил: “Видишь ли, Юра, у тебя нервы не в порядке, тебе их нужно подлечить”.
“И как же вы собираетесь мне их лечить?” — спрашиваю.
“А вот подержим месяца два-три, думаю, ты и поправишься”,— ответил он с наглостью.
“А не поправлюсь?”
“Придется подержать подольше”.
“Тогда можете считать, что я не исправлюсь вообще”.
Он напирать: “Ну, это ты напрасно! Мы не таких ломали!”
Я и ответил грубостью на его хамство, не стерпел, сказал: “Таких не ломают, запомни, ты, дубина!”
Видя, что я стал выходить из себя, он довольно спокойно, хотя уже и с душевной раздражительностью, сказал мне: “Посмотрим, а сейчас шагай”. Он чуть рань-ню нажал на кнопку, и в дверях уже стоял милиционер, который и отвел меня в камеру.
Потом Алехин вызвал меня и состряпал мне двести седьмую статью: угроза убийства. “Кому я грозился убийством?” — спрашиваю.
Он говорит: “Своей жене — было дело такое, Юра, признайся. Ведь даже соседи подтверждают”.
И начал я припоминать и вспомнил: полтора месяца назад, когда жена приползла на четвереньках с работы, я ей сказал при распахнутых дверях, что еще раз приползешь такая с завода — на пороге отрублю голову, так и знай. Поэтому и сказал следователю: “Правильно. Соседи и видели, и слышали подобное”.
“Ну вот,— он мне говорит и вздохнул облегченно,—ты и сам не отрицаешь. Чистая двести седьмая — до шести месяцев. Подпиши”. И подсунул мне писанину.
А я ему: “Хорошо, я подпишу, но на суде заявлю о всех ваших грязных делах”.
Прокурор хозяин своего слова: два месяца продержали без всякой вины. Я настаивал на одном: завершении дела и передачи его в суд. Жена три раза приносила передачи — я не принимал. И вновь вызывает меня Алехин и уже пришивает статью двести шестую, часть вторую: вроде я ее, то есть жену, однажды побил. Я ему говорю: “Слушай, ты когда прекратишь дело и передашь его в суд?”
А он свое: “Вот подпиши это дело — и тут же передам”.
Я, не читая и не задумываясь (уже дошел от всех этих допросов), и подписал всю писанину.
Алехин ехидно, с улыбочкой и врастяжку, произносит: “Ну вот, Юра, на пяток лет мы обеспечены”.
А что мне, отвечаю: “Ты меня тюрьмой не пугай. Мне к ней не привыкать. Вот как вы все со своей шайкой-лейкой загремите в нее, то как себя чувствовать будете, мать вашу?! Я слишком много о ваших делах знаю. Знай, прокурор, на суде все прояснится”.
Еще месяц прошел, и, видя, что я ничуть не сожалею о подписанном и что среди воров, головорезов и убийц всяких я чувствую себя как рыба в воде Алехин принялся возить меня по дурдомам, предлагать деньги врачам. И наконец-то его желание сбылось. Нашелся такой — за две тысячи рублей выдал справку, что я шизофреник. И сплавили меня в дурдом.
Из тюрьмы к умалишенным меня привезли четырнадцатого июня 1973 года, то есть три с половиной месяца без всякой вины, просто так мучили без свободы.
Перед тем как я выехал из тюрьмы, братва мне советовала (что со мной в камере суда ждала) никаких лекарств, таблеток и тем более уколов не принимать, а то запросто сделают дураком. Уже как это умеют, когда кому нужно из партийных или советских командиров, каждый знает — посиди только в тюрьме. И с приездом в дурдом я главному врачу сразу заявил: ни порошков, ни таблеток, ни уколов принимать не стану, лучше убейте... Он меня заверил, что ничего подобного я не испытаю у них. А на другой день жена примчалась с сумкой: домашнего принесла покушать, у меня аж в глазах потемнело. Прогнал и сказал, чтобы не появлялась. “Спрятала,— говорю,— и успокоилась? А я вам покоя не дам, запомни!” И еще ей вслед в таком духе проговорил.
На другой день вызывает меня заместитель главного врача и подсовывает бумажку, подпиши: мол, я, такой-то, обязуюсь на протяжении года не употреблять спиртных напитков, в случае каких-либо неприятностей медицина не несет за меня ответственности. Я прочел и говорю: “Вот это подписывать не буду”. “Почему?” — последовал вопрос. “Потому что,— говорю,— я не алкоголик. Я вообще непьющий. Понимаете, не беру ни капли. Это жена пьяница, ее и лечите. И вообще перестаньте меня мучить”.
“Подпиши. Жена твоя находится на свободе, а ты у нас на тюремном режиме числишься”.
“И все одно,— говорю,— подписывать не буду”. Это они выдумали для того, чтоб я не подозревал о том, что числюсь у них как шизофреник. А уже в феврале, в первых числах февраля 1974 года, разворачивается на моих глазах история с Эриком-хирургом. Он находился в дурдоме — набил морду милиционеру в ресторане. Ему грозила тюрьма, восемь лет. А тут врачи за своего и заступились. Когда его из тюрьмы привезли на экспертизу, они все враз признали его больным. Они так и сказали ррику: “Милиция творит произвол, да еще своих сотрудников выручает — тут наш прямой Долг выручать своих”. Его звать Эрик Гаджиев. Он поболтался шесть месяцев, и врачи устроили ему выписку. И надо же, невезуха, тот милиционер увидел его на улице, и ну звонить в дурдом: “Почему Гаджиев гуляет? Если дурак — держите в дурдоме, а нет — давайте нам, будем судить и сажать”.
Гаджиева скрутили и привезли в дурдом. Врачи беспокоятся за своего. Главный врач Брелон говорит: “Подержу тебя еще полгода и освобожу, не волнуйся. Но чтоб в Воркуте ты ни одного дня не оставался, иначе от этих хватал в форме мы уже не в силах будем тебя уберечь”.
А пока, до будущих счастливых дней, Эрик заполнял дурдомовскую картотеку. И на — попадается ему мое дело в суд, который должен был, оказывается, состояться двадцать шестого февраля 1974 года. Он об этом и сообщил: “Ты здесь, дорогой, числишься как шизофреник. Об алкоголе — это они тебе мозги полощут”. Я ему говорю: “А я и не сомневался. Ведь если бы я значился у них как алкоголик, то должен был быть суд. И этот суд вынес бы мне приговор о принудительном лечении. А так без меня меня женили”.
Эрик советовал мне помириться с женой: другого выхода нет, уж тогда освободят.
Говорю: “Не могу, Эрик, смотреть на эту сволочь, не то что мириться”.
Уж как тут мириться. Под смерть она меня ведет Старается — не унять.
Эрик походил день-другой и говорит: “У тебя нет выхода. Она твой опекун. Двадцать шестого будет суд и, если ты опоздаешь это сейчас сделать,— уж точно без тебя тебя женят. Как минимум, еще год будешь ждать следующего разбора”.
Два пути бабы знают для нас: за решетку или в дурдом. Свой разврат, корысть, тюрьмой покрывают, есть такие статьи — умеючи любого задвинут. Я понаслышался! Столько мужиков по тюрьмам без всякой вины — просто от них избавились: списали в тюрьму, в дурдом. На миллионы им счет. Губят жизни, чтоб самим удобнее жить да неправую любовь крутить.
Столько я о ее подлости думал, аж потолок проглядел, а что делать? Закон им все права дает...
Взял душу свою в кулак и позвонил ей. Она и примчалась. Тут, в дурдоме, и “помирились”. Хотя знаю: один раз змея не кусает...
В общем, стали меня отпускать домой, даже с ночлегом. Дальше больше: первого марта и вовсе освободили. Пожил две недели, а не могу больше: с кем живу ведь? Решил уехать. Меня не выписывают. Не ребенок я, знаю: все мы здесь на поводке, а больно, обидно. Как ни приду, говорят: “Только с разрешения милиции”.
Дело дрянь, много я думал, все улицы исходил — нет выхода — и решил просить по-хорошему, чтобы сама пошла в милицию, и тогда дружки ее дадут мне выезд. Однако она боится меня отпускать, узелки-то какие завязались: а вдруг настрочу прокурору в Москву. На все мои просьбы один ее ответ: “Ты обещал жить со мной”.
Объясняю ей: “Думал, смогу забыть, не получается, велика обида. Пойми, наветами далеко уйдешь, да назад не воротишься”.
Она уперлась, ни в какую не соглашается. Уж как я ходил, думал обо всем этом, а выхода нет. Надо брать на испуг. Говорю: “В таком случае это даже неплохо, что вы меня дураком сделали. Дойду до точки, возьму и прикончу тебя да еще кое-кого в вашей банде, и на все высокие чины не посмотрю. Ответ один — что за одну, что за пятерых в звездах и званиях. Возьми в толк, судить меня никто не будет, поскольку признан дураком и на то есть документы”.
А что я ей скажу? Ведь дураки в нашей стране в особом почете: снизу доверху на всех постах, а случается, еще и памятники им ставят.
Она спорить и ругаться. Я усадил ее на стул и свое продолжаю: “В общем, судить меня не станут, поскучаю в дурдоме год, ну самое долгое два — и твоими же деньгами ворованными и откуплюсь, поскольку дети еще несмышленые, а я после тебя прямой наследник всему, в том числе и твоим воровским сбережениям на десятки тысяч рублей, да там и кровные мои есть, в забое заработанные”.
Подхлестнули ее эти слова: мигом на себя пальто — и вон из дома.
Сижу в горьком ожидании: что ж она мне преподнесет на сей раз. Но получилось все гораздо лучше, вернулась и говорит: “Иди, выписывайся. Разрешение из милиции на выписку уже есть, не задержат”.
Я пошел — и себе не верю: с ходу все документы выписали. Собрался, стал уезжать и слышу вслед: “Мы тебя и там достанем”. Я мало придал значения угрозам, но с приездом в свой родной город (он в Вологодской области, меня там посадили в 1949 году) убедился — сказано ею это не напрасно.
Да, адрес дурдома забыл написать: город Воркута, улица...
Итак, я в своем родном городке. Житье райское. Комната восемнадцати квадратных метров на две семьи, прямо как в тюремной камере. Одна половина за веревкой с тряпкой и есть жилплощадь моей сестры. Общежития в городе нет. Мыкался, мыкался, а выход один: жениться. Сестра принялась помогать, расспрашивает всех на предмет моей женитьбы. Нашлись две. “Одна,— рассказывает сестра,— непутевая, с тремя детишками, но располагает кооперативной квартирой, а вторая самостоятельная, но сама бедует на чужой площади с двумя малыми. У нее не пропишут”.
Говорю: “Давай тогда, сестра, непутевщину. С детьми чужими имею опыт отца. Не страшно, не съедят втроем, не 1947 год — помнишь, пухли от недоеда... Да и проще-то будет с непутевой, скорее усвоит, что не все уголовники отпетый народ. А то как предстану перед самостоятельной да путной? „Здравствуйте, тетя, я ваш дядя. Краткая характеристика? В прошлом — вор. За плечами — двенадцать лет тюрьмы да еще дурдом". Конечно, любая в сторону шарахнется — и руками, и ногами будет отбиваться”.
И сосватали меня. Свадьба была и скромной, и короткой. Всего одну бутылку распили, да и дело уже к ночи подвигалось.
Девка попалась веселая. Дети ее: старший сын десяти лет — у тети, девочка семи лет — у родителей, а при самой мальчик двух с половиной лет. Ужасная любительница забодяжить Не поверите, за месяц выпивала по два сорокалитровых бидона браги. И как не приду с работы, то один гость, то двое, а то и компания, и вроде уже жена не твоя. Куда ни кинь — одни сплошные знакомства. А ведь каждому мужику известно: пьяная баба п.... не хозяйка. И без перерыва — то друзья по работе, то по поводу или по случаю...
Смотрел на эти сцены молча, не возникал... Покажет на дверь, а где жить? Старался быть терпеливым и успокаивал себя: Бог не фраер, заметит, как мне худо, и пошлет что-нибудь настоящее. И так я терпел около трех месяцев, пока... В общем, как-то в час ночи я уже в Постели читал Симонова. Вдруг открывает дверь своими ключами и входит ее мать с тетей. Поприветствовали и, видя, что я лежу один, спросили, где Марина.
Говорю: “На партсобрании”.
“На партсобрании? — удивились они.— На каком? Время уже час ночи”.
“Не знаю,— говорю,— так сказала”. И не выдержал я.
все рассказал, а закончил словами: “В Воркуте оставил пьяницу, разобраться — ваша дочь во сто крат хуже. Если только не прекратит пить, найду хорошую женщину и уйду. Уж своих детей оставил, а чужих...” Встал и показываю бидон: на донышке чуть браги, литра на два. “Вот,— поясняю,— на сорок литров, а в этом месяце уже второй кончает. Я же чайной ложки не выпил. Противна мне эта гадость”. А тут и Марина приходит. И заявили они ей, чтоб прекращала шалить, мол, если Юрий уйдет, вернем тебе твоих детей и ты нам больше не родная дочь.
Следует сказать, что родители у нее прекрасные, самостоятельные. Я позже с ними хорошо познакомился. В общем, девка образумилась. Неделя-другая — и бидон выкинула. Будто обрезала, не пьет, и все. И зажили мы с ней всем на удивление. Просто все стали завидовать. Я был доволен жизнью.
Моя бывшая супруга сразу (не успел я по приезде еще устроиться на работу) прислала на алименты. И стал я платить тридцать три процента — чувствительно при наших заработках и троих здешних детях. Однако это не сломило меня и не настроило против мою новую подругу. Радовались мы жизни.
И вдруг Марина приходит и докладывает: “Знаешь, что мне сейчас заявили? Вызвали в партком и, не поверишь, требуют: или положи партбилет на стол, или разводись с мужем”.
“Почему?” — спрашиваю я секретаря. А он как обрезал, всего два слова: “Так нужно”. Я ему и ответила: “Уж лучше я вам оставлю партбилет. Я-то поняла, наконец, что такое счастье, а вы хотите отнять его. Не уступлю я вам”. Бросила партбилет на стол и с глаз долой.
Ее понизили в должности, урезали зарплату. На себе экономили, а детям ни в чем не отказывали, и, самое главное, Марина ничуть не сожалела. Жизнь наша протекала как в сказке.
И вдруг ее опять вызывают, извиняются: признаем свою ошибку, но поймите и нас — за вас беспокоились, вот и погорячились. И возвращают ее на прежнюю должность и прежнюю зарплату. “Мы,— говорят,— в ответе за вас и ваших ребятишек. Ведь с бандитом связалась. А присмотрелись: вроде ничего он. Живите и будьте счастливы”. В общем, пожелали всего хорошего. Но это, как оказалось, была лишь тактика и совсем не доброта. Верно, ее на работе больше не трогали -за меня принялись. Сообразили, что надо по-другому. Закрывать мне стали по наряду мои же заработанные рубли. Чтоб я ни делал, все не так, все вроде хуже всех, хотя я старался и работа у меня, что называется, горела. За два года и девять месяцев я избегал пять предприятий — и везде одно и то же. Поначалу мои платят, а после... Не щажу себя в работе, а мне — унижения и копейки. Все неприятности не опишешь.
Как жить? Захребетником у жены? А трое детей здесь и еще алименты? Нет, что им терпеть за меня, им есть и одеваться нужно. Рассчитался и уехал в Ташкент двадцать шестого декабря 1976 года. Но там строили метро открытым способом. Шахтерский стаж не засчитывался.
Восьмого января 1977 года прибыл в Ленинград. Десятого января -на выходе из метро “Гостиный двор” спросил, где управление Ленметростроя. Показали на площадь Островского. Отыскал отдел кадров, спросил, нужны ли проходчики. Начальник ответила: “Еще как нужны!” Выложил ей документы. Все ничего, пока не попался один — сразу в лице изменилась. На том документе — фотография меня в шестнадцать лет и пропись, что я, Юрий Пугачев, являюсь столяром третьего разряда, обучился в колонии завода “Конвейер” Архангельской области, время обучения: 1950—1951 годы.
Начальник сразу взяла круговую оборону (а может начальница? Кто его знает, как правильно?). Налистывает трудовую, дошла до первого марта 1973 года и сразу испуганным тоном: “Где провел год? В тюрьме?”
Видя, как она боится бывших заключенных, говорю: “Да нет, не в тюрьме, в психиатрическом отделении больницы. От запоя лечился”.
“Предъяви справку”.
“Да,— говорю,— потерял”.
Она швырнула документы и на крик: “Иди! Найдешь справку, тогда и приходи!”
Ее имя: Евгения Петровна Виноградова. С виду нормальная женщина.
Вышел я расстроенный и говорю одному из работников, мимо топал с бумагами: “Надо же, какая у вас злая тетя!”
“Чего такое?” — интересуется.
“Да,— говорю,— вроде я портфель у нее прошу. Лопату-то с отбойным молотком и то боится доверить”.
“А чего,— интересуется,— судим был, что ли?”
“Да,— говорю,— был грех, но давно”.
“Не тушуйся,— говорит,— поезжай на лесозавод. На пятнадцатом номере принимают всех, хоть с семью судимостями. Покажи себя с хорошей стороны — через год будешь работать в шахте”.
Сломя голову я помчался на тот лесозавод. Аж вздрогнул — и тут начальник отдела кадров женщина, но эта совсем другая. Нина Дмитриевна зачислила меня на работу безоговорочно. Записала меня кочегаром третьего разряда с окладом в сто двадцать рублей. Не густо, конечно. А она, будто прочла мысли, говорит: “Коли помимо прямой работы будешь еще выполнять и дополнительную, какую тебе укажут, то будут доплачивать согласно закону”.
Радости моей, казалось, не будет предела, но, как покажет будущее, преждевременно.
За работу я взялся рьяно: хотел показать, на что я способен. За две недели навел морской порядок вокруг и в самой котельной. Не успел распрямиться, вздохнуть, а уж недоброжелатели тут как тут и главный — Санек Агафонов: все подковыривает, лезу я, мол, в хорошие. Объясняю ему: “Я могу работать, а за сверхурочные часы мне платят. Как быть? Без денег худо: обносился, вон белья нижнего нет. И детишкам надо посылать — в чем их вина?..”
“Никто тебе не станет платить за дополнительную работу”,— издевается он. И так не один раз, приходит и травит душу.
Сколько можно? Я и не выдержал, обратился к Нине Дмитриевне, повторил его слова. “И впрямь не будете платить?” — спрашиваю.
Она его вызвала и прочихвостила: “Комсорг завода называется! Вместо того чтобы поддерживать порядок на работе, дурью да сплетнями занимаешься!”
Санек вернулся — и на меня с кулаками. Я увернулся и говорю: “Не спеши, парень, с этим успеешь. Я тебе вот что покажу”. И за плечо подвел его к мотору — вес 182 килограмма. Уперся — и пять раз подряд оторвал от земли под самую груды Отдышался и говорю: “Теперь помозгуй, прежде чем замахнешься”. Агафонов-то ростом велик, впечатление есть, но квелый — я-то понимаю в этом. Да и видел я таких блатников!..
Агафонов нашел выход: натравил свою шпану из комсомольской организации и первым — Борьку Машина. Комсомолец из горластых, все выступал да призывал... Работаю я, а в котельную Борька и вваливается. Подгадал: вокруг ни души. И на меня — я едва увернулся. Он опять — ну что делать? Я и отходил его по-тюремному. Очень качало его. Пришлось поддерживать до двери, а там вытолкнул и сказал на прощание: “Надумаешь сводить счеты — не пожалею”.
Дела такие... Чего гляди, посадят. Не стал я ждать, доложил начальству. Пусть урезонят Агафонова. Что он мне шпану подсылает?.. И как я понял, начальство не хотело терять такого работника, как я, да к тому же почти дармового: за целую бригаду ишачил.
И вот вечером в воскресенье, в мое дежурство, приходит Калашников — заводской электромонтер. И рассказывает, как влюблен в меня: таких рабочих за свои двадцать лет трудового стажа не встречал. “Хватит,— говорит,— тебе спину гнуть. Этак и сломаться можно. Должность есть у меня подходящая. И делать ничего не будешь, зарплата вдвое больше. Ходи и указывай, а сам ни за что не отвечаешь и ничего не делаешь. Но сперва нужно избавиться от одного типа. Выгоним, а ты на его место”. Я на таких нагляделся, как этот Калашников. Глядит, верно, лисой, а пахнет волком. Я прикинулся шлангом и спрашиваю: “А кто этот негодяй?”
“Димка Пахов”.
Как назвал это имя, едва удержался, так бы и съездил ему по роже, аж зубами скрипнул. Это, пожалуй, единственный человек на всем заводе, кого я уважал искренно, да еще Нина Дмитриевна и жена Димы -Валя. Я всегда любовался этой парой, когда они обедали в котельной. Валя работала в другом цеху, а к мужу приходила в обеденный перерыв. Люди уже немолодые, но приятные и честные труженики. Дима непьющий и некурящий, как и я. В нем-то я и стремился встретить друга.
Сдерживаясь, объясняю Калашникову: “Я на чужих бедах свое счастье не строю”.
А он: “Да ты не трухай! У Пахова машина имеется и на сберкнижке еще на пять машин. Хватит с него”.
Говорю: “Он же не украл эти деньги, а заработал”, Долго меня Калашников уламывал, но я наотрез отказался. А наутро, в понедельник, когда Дима пришел на работу, я и рассказал, как торговали пропойцы его местом.
И с этого все началось.
Дима им все высказал, он не из робких. А раз так — решили эти ханыги избавиться от меня, но уже, так сказать, капитально. Только как?
Надумали припугнуть: мол, сам уберусь.
Ровно через неделю дежурю я в котельной, и опять с воскресенья на понедельник. Само собой, ни души, один я. И вот часа в три ночи вламываются сразу четверо, причем хорошо поддатые. У меня-то глаз наметанный: убивать пришли. Они и скрывать не стали, матерятся, орут: “Молись, будет тебе отходная!”
Я их знать не знаю, и откуда взялись, не ведаю, однако понял, чья работа: совместное производство комсорга Агафонова и пропойцы Калашникова. В один узел они повязаны.
Занял я удобную позицию, со спины не возьмешь. Держу гаечный ключ. Прикидываю про себя: “Давайте, давайте, чего медлите, на матерщину силу изводите. Посмотрим, кому как обломится”. Но сам-то драться не люблю, даже ненавижу, гадко это мне. Поэтому и говорю: “Со мной шутки плохи, ребятки. Не достанете меня. Я и не такое видел. Просто не советую пробовать. Кроме опыта и природной крепости я еще и спортивный человек”.
Стою, ключом поигрываю, сбоку лом. Они покружили, пощерились, а, верно, боязно. И вот один из них, лоб под два метра, дает отбой, басит: “Пусть эта сволочь додежурит смену, а то котлы без присмотра останутся, взрыв будет. Мы его лучше завтра замочим, прямо в его же берлоге, куда денется”. И к двери, матерятся, плюются.
Я им вслед: “Приходите, ребятки, я гостеприимный”. Сижу, пот отираю, ясно одно: тут еще против меня и сам бригадир котельной Лязгин, он же и завкотельной. И начал я готовить холодное оружие, от лагерей опыт. До утра времени достаточно. Отточил такую штуку и наждачком подшлифовал — двоих насадишь и еще местечко найдется. А еще сверху плашмя шлепнуть — любая черепная коробка разлетится. И как только приходит на работу Лязгин, я к нему в кабинет, кладу на стол оружие и даю объяснение: “Вот эту штуковину сработал нынче ночью. Нет, не для того, чтобы кого-то убивать, а для своей защиты. Если только придут твои бандиты, а они это обещали, мяса будет очень много. Ты столько за всю свою жизнь не увидишь. Усвоил?” И, видать, все они серьезно напугались — намека на подобное происшествие больше не было. Спокойно работаю, никто не лезет.
Но не угомонился заводской актив. Проведали, что я бывший уголовник, сидел за воровство,— и принялись ломать замки. То на складе красок подпилят, то на чьей-то квартире, точнее, на дому, ибо жили все за городом. И заводят по цехам разговоры, будто это я балуюсь. А тут и в конторе замок оторвали: вроде бы печать мне понадобилась для бегства за границу. А Димку Пахова так зауважали, самый ненавистный им человек, а на Доску почета его портрет: мол, лучший производственник. С умыслом это, чтобы я не имел поддержки. А с лета и того хуже. Комсомольцы повыдергали у старухи ботву, картошка еще и не собиралась зацветать, и шепнули, что это я. У кого-то в огороде огурцы сгубили и опять пустили слушок, мол, Пугачев это. Люди -в милицию: “Тридцать лет здесь прописаны, а не слыхали, чтобы у нас кражи вершились. А тут за полгода — взлом за взломом, безобразие за безобразием. Наши на такое не способны, это проделки профессионала”.
И этого активу мало: стали нашептывать, вроде я баптист. Кто-то уже видел меня в Береговом, где баптисты в сарае собираются на молитву. Ложь, она, конечно, на коротких ногах, да вот с длинными ушами...
Нервы не выдержали — и я опять в Ленметрострой, к начальнику отдела кадров. Все ей рассказал и под конец говорю: “Вы, я заметил, боитесь заключенных бывших. Да, помыкался я там, но это же было давно. Нельзя же казнить всю жизнь за прошлое, только потому, что оступился в детстве. В каком же это таком законе или правиле есть?”
Евгения Петровна согласилась и пообещала посодействовать с переводом в шахту. “И даже если будет сопротивляться директор завода,— говорит,— устроим это без его ведома”. По-доброму сказала, от сердца. Я аж взволновался. Много ли я слышал добрых слов?
И я, довольный и жизнерадостный, вышел из кабинета. Прихожу к своему директору, он и слушать не хочет. Я ему тогда говорю: “В таком случае обойдутся без вашей подписи”.
Он усмехнулся, сказав: “Как же это может произойти?”
“А увидите как”,— сказал ему и захлопнул дверь.
На другой день после работы я поехал к Евгении Петровне, ведь отказали мне. И лишний раз убедился, как спереди мажут, а сзади кукиш кажут. Евгению Петровну вроде подменили. Губы поджала, в глаза не смотрит, говорит: “И я вам, товарищ Пугачев, при таких обстоятельствах не в силах помочь. Рассчитывайся — и уезжай. Вот тебе мой единственный совет. Знать надо свое место”.
“Нет,— говорю,— я не буду рассчитываться, не для того приезжал в этот город, чтоб так скоро рассчитаться с ним”.
Получилось: ездил к городу, да наплевали в бороду, а с улыбкой и доверием ездил.
На лесозаводе разговорился с одним шофером, он доски возил. “Чего,— интересуется,— ты шахтер, а пропадаешь здесь? Валяй в шахту”.
“А как? — говорю.— Был да не берут”.
“У кого же ты был?” — спрашивает.
“У Евгении Петровны Виноградовой”.
“Чего ты,— говорит,— к этой мочалке ходишь? Вали к самому Сажину”.
“А кто он?”
“Ну ты даешь! Да сам директор Ленметростроя! Он мужик толковый”.
И я поехал... а как не поедешь? Лучше гнуться, чем переломиться, а я больше не могу гнуться. Вышел я весь, на излом иду.
Вхожу в кабинет. Сажин смотрит, а я раскладываю свои шахтерские удостоверения. Он молчит, и я не спешу. Наконец спрашиваю: “Вот видите, могу ли я быть тунеядцем каким-нибудь?”
Сажин говорит: “Хорошо, вижу, труженик ты, но ко мне-то почему явился, тебе ж в отдел кадров?”
Говорю: “Был у Виноградовой уже три раза”.
“Ну и что?” — интересуется.
“Не берет”.
“А вот этого быть не может. Нам специалисты нужны всегда”. И позвонил ей.
Она заходит.
Сажин спрашивает: “Вы знаете его?”
Она: “Да, он приходил на работу устраиваться”.
“Так почему не берете?”
“Видите ли,— произносит она мягко,— у него лимит, Захар Александрович”.
“Ну и что, что лимит? Оформите его и не морочьте мне голову! Не знаете, как это делается?”
И мы вышли.
Как понесла меня уважаемая Евгения Петровна всякими скверными словами, и все приговаривает: “Работать надо, а только и знаешь болтаться по кабинетам да жаловаться!”
А дальше было еще ужасней, но нет времени, спешу на Ваш концерт.
Юрий Пугачев”.
Восстановить в памяти облик моего тезки не составляло труда из-за этого самого альбома. “Подарок? Почему?...” — тогда память выделила этого человека сразу.
Да и сам по себе подарок был несколько необычен: скромный в размере, но очень пухлый альбом в бархатном малиновом переплете на металлических застежках. Я, помнится, смутился: какое отношение подарок имеет к выступлению?
Я подписывал свои книги, давал автографы, отвечал на вопросы, а краем глаза держал человека в поле зрения: надо отойти и выразить признательность особо.
Тезка стоял тут же, на сцене, шагах в пяти. Мой рост позволял увидеть его за небольшой, но плотной и чрезвычайно деятельной толпой вокруг. Стоял он особняком, несколько скованный, грузноватый. В осанке какое-то упорство, ну не сдвинуть — уж такой человек. Лицо овальное, красноватое, немного толстое в щеках. Рот сжат, рисунок губ четкий.
Я постарался освободиться побыстрее: вдруг человек не дождется? Толпа не редела, но я, кажется, ответил на вопросы и подписал все книги и просто листочки. Я простился с людьми и подошел к нему со словами: “Спасибо, большое спасибо...”
Я почти не сомневался, он что-нибудь спросит. Он коротко, как бы отстраняясь, тряхнул мою руку, а точнее, пальцы. Я продолжал говорить: “Спасибо, я тронут...” Люди опять стали грудиться вокруг. Тезка, как-то поеживаясь, словно что-то мешало, цепляясь, выждал еще некоторое время, после коротко кивнул и зашагал со сцены...
В банке уже снова закипала вода — это побеспокоилась Лариса. Я ощутил голод. Есть на ночь? Я отломил кусок белого хлеба и протянул кружку. После таких выступлений не стоило беспокоиться о весе. Впрочем, я и без того упустил его. Вернусь — и приведу себя в норму. А все же как гадко это ощущение тяжести в поясе.
Лариса насыпала заварки и, обхватив банку полотенцем, разлила кипяток. Делала она это умело, но я на всякий случай поджался.
- Подожди, — сказала она почти шепотом и накрыла
кружку блюдцем; погодя, как бы угадывая мои мысли,
промолвила все так же тихо:
- Есть хочется.
Поначалу мы пробовали столоваться в Доме молодежи — самый заурядный “общепит”. Уж большей заурядности не сыскать. Как всегда, следовало взять поднос, на поднос — тарелки с едой, расплатиться в кассе, а поев, снести тарелки к обширной дыре в стойке, под которой стоял бак, и соскрести или сбросить в дыру объедки. Таким образом, бак красовался тут же, возле столов, в едином строю со стойкой, уставленной закусками, стаканами с соком и компотом, как я убедился, изрядно подразбавленных сырой водой.
Все шли вытряхивать объедки, демонстрируя порядок и сознательность. Когда поспели мы со своими тарелками, бак уже на три четверти затек бело-розовым месивом.
Мы поели всего раз и дали слово питаться хлебом и чаем, но никогда не есть в компании с котлом для отбросов...
В письме не оказалось обратного адреса. Я оттянул застежку и открыл альбом: может быть, здесь? По переплету и первому листу с вырезом для фотографий были наставлены слова:
“Ну, дорогой человек!
Как только откроете альбом, увидите, как я старательно выводил, а точнее, обводил каждую букву.
На каждой странице альбома лежат двойные листы писем. Там вкратце вся моя биография, хоть, верно, далеко не вся. Если к ней еще приплюсовать звание “английский шпион”, “диверсант”, “баптист” и т. д. А почему баптист? Потому что некурящий и непьющий... А что касается званий “английский шпион” и “диверсант”, то долгая история, но эти звания я получил здесь, в Ленинграде”.
И стихи. Пять четверостиший, обо мне и Томи Коно. Неумелые, но такие сердечные!..
— Юра! — услышал я голос Ларисы и поднял голову. Она протягивала кружку. Я взял кружку, хлеб. Говорить не хотелось. В памяти укладывались письмо и образ человека. Я помолчал и протянул письмо Ларисе. Она ушла в чтение и вскоре заплакала.
Я допил чай, встал, выключил телевизор. Он наискосок перегораживал угол у окна. За площадью чернели крыши. Зимы не было: долгие затяжные оттепели, неизбывные дожди со снегом, вместо дорог — наледи. А весна дала знать о себе с середины февраля. И сейчас город совершенно чист от снега, ни пятнышка даже в темных дворах. Ночь скудно и желто размывала окна пятиэтажного дома напротив. У подъезда гостиницы, под нашим номером, горласто перекликались, а порой и свистели парни. Я знал: они расходятся после танцев.
Каждый вечер из зала на втором этаже валил табачный дым, так сказать, отдушенный потом и пудрой. Бухали ударные инструменты и выныривали к лифту и дверям на первом этаже совсем юные девочки и парни — блестящие от пота, какие-то блудливо-неспокойные и обычно припахивающие вином.
Внизу, по краю площади, мимо улицы Барочной, с преувеличенно резким скрежетом катил маршрутный автобус. Я вспомнил утреннюю прогулку: мы шли именно этой улицей... да, Барочной — это от трамвайного депо к мосту через Карповку. Солнце пыталось глянуть из-за рыхлой завесы туч. Они скользили клочьями, уже не такие темные, больше похожие на утренний туман, раздуваемый ветром.
Я то мокрел, то застегивался наглухо. Мы часто останавливались, и я ждал, пока пот уймется. Проклятая слабость!
От трамвайного депо, разухабисто гремя на стыках, набирал скорость одновагонный трамвай. Я следил за ним и никак не мог внять почему. Наконец догадался: несуразность — с площадки сзади хлещет вода. Трамвай — и вода?!.. Трамвай поравнялся. В середке вагона сидела пожилая женщина, зябко притулясь к окну, а на задней площадке торчал плечистый малый с сигаретой в зубах и деловито мочился в дверь. Мы замерли, провожая трамвай. Это же не вагон — это целый символ эпохи, своего.рода знамение времени...
— Когда Паганини заканчивал выступление,— заговорила вдруг Лариса все так же шепотом, но с горячностью,— он без промедлений исчезал: как можно быстрее добраться до кресла. Он обмякал, закрывал глаза — никаких признаков жизни. И руки... бессильно свисали к полу. Это пугало близких, они так и не могли привыкнуть: их Паганини казался мертвым. И они окликали его, трогали — настолько глубоким оказывался этот уход жизни из него с талантом звука, страсти звука: человека нет — лишь безжизненная оболочка его.
- Это же Паганини, Ларик, а я просто устаю. Ни одно слово не получается безразличным. И еще зал — как бы сплавляюсь с ним, воспринимаю малейший перелив настроения. Это обессиливает.
- После выступлений тебя не узнать, даже кровь надолго уходит с лица. Я всякий раз пугаюсь. Знаешь, бывает человек уставший, а бывает... истраченный человек; не знай я, с каким темпераментом ты завтра разрядишься в новом выступлении, я приняла бы любое твое выступление за последнее... С каждым словом из тебя уходит жизнь, дробится — и уходит... Господи, тебе надо писать — и никогда не выступать! Твое назначение — писать, а ты здесь стираешь себя; после такой жизни, какая была у тебя, это недопустимо.
- Не я же назначаю условия игры. Нам надо жить, а заработка нет. Он будет, но пока нет.
- У меня болит сердце, не могу видеть: ты ведь лишен покоя, и не только здесь, а все последние годы, особенно последние месяцы: без дома, без угла...
А люди? Не сделаешь чего-то, не в состоянии выполнить просьбу — и уже ненависть, боль! А сколько их — они не думают! Хоть убегай — и прячься, изменяй лицо... Кстати объясни, почему за два дня до нашего приезда сняли бронь в гостинице “Ленинград”?
- Э-э, у нас ведь есть номер.
- Есть, но ты все же объясни, почему вдруг сняли бронь?
- Напрасно ты это принимаешь к сердцу. Мелочь это.
- Нет, ты объясни.
- Во-первых, не сняли, а отняли. Номера вообще могло не оказаться. Ладно, что на улице не остались. Во-вторых, и это главное, надо выступать в угодном духе, всею жизнью угождать тем, кто распоряжается нашими жизнями и кто не хочет с этим правом расставаться. В известных условиях они способны и физически убрать неугодного человека или злостно оклеветать в газете, по телевидению. Это уже делали, и со мной тоже. К сожалению, мы лишены возможности отвечать.
- Да, ты не их, это верно. У нас, чтобы даже редчайший талант получил признание, следует умереть. Зароют в могилу — и пошли кадить, присваивать премии, лить слезы. Да если бы Владимир Высоцкий слышал о себе то, что сейчас говорят, он не умер бы. Ни за что не умер бы! Значит, сгубили! Сгубили, а теперь музей открывают — как же трогательно! Это точно, убивают не только ножом из-за угла или каторгой... Высоцкого сгубили крохотностью жизненного пространства, в котором он бился. Вместо беспредельности пространства, естественного исхода таланта, страсти — унижения, невозможность встать перед народом в свой подлинный рост, жизнь на зажатом дыхании... Алкоголь — это ерунда, тут главное другое. Пойми, такое внутреннее напряжение разрушает, не может не привести к смерти. Тут все по накатанной дорожке. Однако Высоцкому, если позволительно так выразиться, “повезло”. Он вернулся к нам сразу после смерти: живы все, кто любит и ценит его. А другие? Те, что в земле... Сколько лет я помню притчу: батрак спас помещика и тот поклялся исполнить любое желание бедняка. Десятки лет тому снилось одно и то же: горячая бататовая каша. Он и попросил сварить... семь горшков. Хоть раз наесться... Помещик не обманул: приехал за ним и увез к себе. Перед бедняком поставили семь горшков бататовой каши. Сколько же в мечтах он видел ее! Но даже малой части ее он не смог съесть... Так во всем. Когда жизнь истрачена на борьбу за право воплотить мечту в реальность строк, музыки или красок — даже когда она все же сбывается! — сил уже нет. Их стерло, уничтожило преодоление среды. Ведь в этом мире вознаграждаются вовремя лишь покорность и... бесцветность. Бесцветность никогда никому не угрожает. Она вроде половичка под ногами...
Лариса смолкла. Наверху мягко, но увесисто последовали удар за ударом, сдавленно отозвался женский визг, а за ним торопливо и весело — гомон молодых женских голосов, покрываемый мужским хохотом и чьими-то басовитыми восклицаниями.
Не унималась и дверь: дергалась, дрожала на ветру. Подумалось: даже дверь в этом государстве как в лихорадке.
Я вобрал в себя казенный запах скверно вытертой пыли и огляделся как бы наново. Пустая глазница настольной лампы. Тут же, в пепельнице, поблескивала пузатым бочком сама перегоревшая лампочка. По невзрачным обоям над креслом — черноватый мазок: раздавленный кем-то клоп. В коридорчике к входной двери — полоска света: это из туалетной комнаты. Однако здесь и головы не помыть: вода сутки напролет чуть теплая.
И наши вещи на спинках стульев, кресел — все брошено усталой рукой. Я качнул лампочку. Она стала коротко кататься влево-вправо — и замерла, моталась лишь оборванная нить: мелко-мелко, тоже как в лихорадке.
Я вспоминал Юрия Пугачева, укладывал в память попрочнее. Да... кряжистый, ростом ниже среднего, в коричневом костюме под галстук. Красновато-загорелое лицо человека, привычного к работе на воздухе. Плотен и тяжел не только телом, но и костью — как бывают те, кто по-настоящему, не ради баловства тренирует себя тяжестями.
Память отметила толчком чувств, как он нехотя пожал руку. Ладонь жесткая, туповатая. Пальцы толстые, напористые, грубые физической работой. Сознание запечатлело два, казалось бы, несовместимых качества: настороженность и глубинную уверенность в себе, даже какое-то спокойствие, как бы мудрый взгляд с высоты.
Поразило: он ничего не просил (да ему это, видно, и не нужно, органически противно). Он молчал, так и не оставив ни адреса, ни телефона... а жаль.
Май 1989 г. Москва
— Нагорная
-----------------------------
Сообщение изменено: {ADMIN} (02 августа 2004 - 11:37)
#56

 Отправлено 02 августа 2004 - 02:01
Отправлено 02 августа 2004 - 02:01

1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
 Вход
Вход Регистрация
Регистрация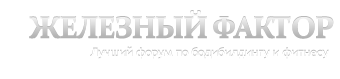










 Наверх
Наверх